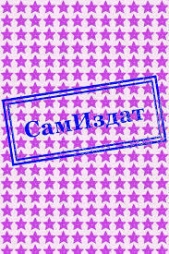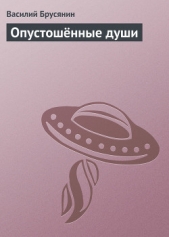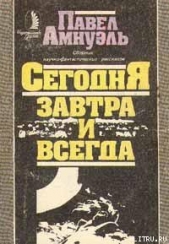Броневержец

Броневержец читать книгу онлайн
Колонна бронетехники попадает в засаду, и в ходе завязавшегося боя БТР Шашкина и его напарника Рахимова получает повреждения. Бойцам удалось устранить неполадки, и теперь они должны нагнать ушедшую вперед часть, иначе не уцелеть — вокруг затаились моджахеды. Но, похоже, духам во что бы то ни стало нужно добить обескровленных солдат и БТР-развалюху…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Владимир Коротких
БРОНЕВЕРЖЕЦ
1
Промозгло и тоскливо зимой в азиатской пустыне. Низкие тяжелые облака утюжат макушки невысоких холмов, подравнивая землю по высоте, вылизывая долину дождевыми языками. На сером мокром песке виднеются лишь небольшие округлые кочки с норами и остатками прошлогодней верблюжьей колючки на округлых затылках. Холодные ошалевшие ветры носятся по песчаной равнине, закручивая из стороны в сторону падающие с неба водяные струи. Пьет земля, жадно сглатывая дождевые потоки, не оставляя ни единой лужи на поверхности, готовясь к приходу тепла, а за ним жестокой жары и долгой суши. Не пройдет и двух месяцев, как солнце выпарит из неба всю влагу, не сохранив на нем ни единого белого перышка, способного укрыть благодатной тенью хоть какую-нибудь мелкую тварь. Оживет пустынная степь, превратившись ненадолго в зеленый ковер, потянется к синеве стебельками скудных трав и тщедушного разноцветья. Очухаются от спячки и поползут из нор змеи, ящерицы, скорпионы, пауки и другие гады, являя присутствие жизни в отдаленном уголке земли. Прилетят птицы. Округа защебечет, зашипит, залетает, забегает и заерзает от радости бытия, ниспосланного этими долгими проливными дождями. Хлынет тогда жизнь и понесется быстрее всех зимних ветров, покорно убравшихся из долины с приходом весны.
А пока что хлещут на песок холодные дождевые струи. Редкие снежинки, не успевающие долетать до земли, обращаются в тяжелые капли. Все, кажется, превращается в дождь.
Мутная вода стекает с одежд промокших людей, нашедших себе занятие здесь в такую неподходящую пору, капает с их лиц и ладоней. Они морщатся, отворачиваясь от ветра, поднимают воротники ватных грязно-зеленых бушлатов и носят на плечах тяжелые ящики. Носят и складывают, носят и складывают. Потом уходят в большие брезентовые палатки, снимают там с себя раскисшую одежду и развешивают ее на веревках вокруг чугунных, раскаленных докрасна печек.
К палаткам подкатывают грузовики. На смену только что отработавшим выходят другие люди. Они тоже носят ящики, принимая холодный февральский душ. Порожние машины уезжают, оставляя растущие штабеля темно-зеленой тары с черной заводской маркировкой. Подъезжают следующие, забитые грузами под самый верх тента. Меняется смена…
Не меняется только один человек. Он считает ящики и указывает место их складирования. Каждый раз после разгрузки он заходит в палатку, стряхивает с прорезиненной плащ-накидки воду и, называя фамилии, назначает новую смену.
Наконец опустошен кузов последнего бортового «УРАЛа». Машина, бряцая и дребезжа защитного цвета бортами, медленно отъезжает от палаток, выруливает за ограждение из колючей проволоки и, поддав газу, растворяется в пелене дождя.
Человек в плащ-накидке машет рукой и кричит:
— Все! Закончили!
Он направляется в другую сторону, к другой большой палатке, у входа в которую на вбитом в землю обтесанном сосновом колу красуется деревянная табличка с надписью: «Штаб».
Через минуту он возвращается и устало шагает по мокрому песку, печатая тяжелый шаг разбухшими отсыревшими сапогами. Он подходит к маленькой выцветшей до рыжины палатке, осторожно отодвигает рукой плотную ткань, заменяющую дверь, и, пригнувшись, ныряет внутрь.
В палатке тепло и пахнет горелым углем. Посередине топится чугунная печка-буржуйка с выведенной в потолок трубой. Сквозь маленькое квадратное плексигласовое окно пробивается тусклый свет. С двух сторон по бокам на земле лежат два больших соломенных тюфяка, сшитых из серой полосатой ткани. На одном из них, отвернувшись лицом к стене, спит человек, одетый в полевую военную форму. Рядом стоят его сапоги с аккуратно намотанными на голенища портянками и радиоприемник марки ВЭФ.
Вошедший снимает с себя плащ-накидку, теплый бушлат, шапку и вешает их на проволочные крюки.
Медленно расстегивая китель, он откидывается на спину, закладывает ладони под затылок. Пламя горящего в печке угля глухо гудит в дымоходе, устремляясь вверх по металлической трубе. Человек прикрывает веки, стараясь на время отогнать все мысли и задремать. Уставший, простуженный, негромко покашливая, он вытягивает руки вдоль туловища в надежде подманить сон, глубоко и ровно дыша. На время это ему все же удается, и он погружается в дрему. Туманная пелена плывет в глазах, разлучая сознание с действительностью, окутывая его светлым облаком. Но ненадолго, всего несколько минут безотчетного забытья прерываются импульсивным нервным напряжением в мышцах. Он вздрагивает, моргает и снова плотно сжимает веки, пытаясь не упустить желанного сна. Безуспешно. Пелена улетучивается, вернув ноющую боль уставшим глазам. Медленно повернувшись на бок, он подпирает лицо кулаком, с завистью поглядывая на спящего соседа.
«Хоть бы что ему, — думает он, — сопит, только слюни пузырятся. А я, блин, дергаюсь тут, как лягушкин рефлекс. Возрастное, что ли? Ему-то чего, он в жизни пока только сопеть и научился, не успел еще нервы попортить».
Глубоко вздохнув, он снова закладывает руки под затылок и смотрит на провисший потолок палатки, расписанный розоватыми бликами.
Палатка парусит и хлюпает от ветра. Скопившаяся в провисшей крыше вода время от времени с тихим шелестом скатывается по стенкам и тут же уходит в песок.
Сосед спит. И действительно, чего ему, беззаботно спящему парняге? Собственно, и ничего. Ведь сейчас же он — лишний. Лишний прапорщик по имени Леха. А если серьезно и сугубо документально, то Алексей Петрович Шашкин, двадцати двух лет, холостой и совсем нелишний. Не может прапорщик быть лишним в армии. Прапорщики в армии всегда были нарасхват. Просто так сложились обстоятельства его службы, которая в настоящий момент временно тормознула, вынуждая его дрыхнуть в стремлении максимально сократить время тормозного пути. А тормозил он уже больше недели. Не сильно обремененный в данный момент тяготами службы, он, если не было дождя, слонялся по ближним пустынным окрестностям и иногда ездил в город, который находился в тридцати километрах. Но в дождь он хоронился в палатке и спал, озвучивая досаду, даже в некотором смысле протест по поводу временной своей неудельности, задорным молодецким храпом, обоснованно полагая, что в его положении лучше переспать, чем переработать. Впрочем, в этом занятии ему никто не мешал, потому что он действительно вроде как был почти ничей — лишний, можно сказать, недооформленный, транзитный на этой территории, огороженной проволочной колючкой.
В этой невозможности лично поправить ситуацию Леха спокойно дожидался ее разрешения командованием отдельного ремонтно-восстановительного батальона, куда его занесло по недогляду какого-то штабного писарчука, допустившего оплошность при оформлении его документов. Он без особенных нравственных мучений принял нелегкую долю праздного созерцателя, наблюдая за тем, как остальные все время что-то разгружают, носят и снова загружают, увозят, привозят, закручивают, откручивают, матерятся и от этого всего очень устают.
А вообще-то жизнь у Лехи, как он сам говорил, ладилась. А чего ей, счастливой, было не ладиться? Родился и жил он не в каком-нибудь раздолбанном, преющем в смертных муках капитализма, издерганном заокеанском городишке, а в крепком донском колхозе, где все люди испокон были открытые душой и добрые сердцем.
С младых ногтей он был окружен родительской лаской, заботой детсадовских воспитателей и школьных учителей. Он сознательно проходил все ступени становления и развития личности советского человека от октябренка до комсомольца. Все ладилось и звучало, как его имя с фамилией — Алексей Шашкин! Хотя ему самому больше нравилось, когда его называли по-простому — Леха. Было в этом имени для него что-то стремительное, обстоятельное и прочное, как сабля наголо — Леха! Назвался, как отрубил. И фамилию свою он ассоциировал только с кавалерийской шашкой, а не с круглой фишкой, которую хилые люди двигают по клетчатой доске. Леха и сам был по натуре стремительным и деятельным существом, которому тесно было в рамках родной деревни. В детстве он частенько терпел от отцовского ремня, когда в очередной раз был отловлен батькой на автобусной остановке в попытке прокатиться до города и обратно, вместо того чтобы сидеть за партой и учить науки. Школьную программу он усваивал на уверенный «трояк» и делал это как бы между прочим, почитая ее как необходимую прививку от слабоумия. Не сильно его вдохновляло чье-то мудрое изречение на плакате, висящем в классе над доской: «Математика — это гимнастика ума!» Вот, оказывается, оно как?! Однако сомнительным это было для Лехи. Ну какая, спрашивается, гимнастика в том, чтобы учить эти цифирные формулы, от которых он впадал в уныние и непреодолимое желание прокатиться до города, где жизнь носила совершенно иной, скоростной, интересный уклад. Дорогой в автобусе и думалось складно и мечталось приятно. Зато Леха не был хулиганом, врал только по необходимости, отличался трудолюбием и никогда не прогуливал уроки труда. Он ходил в кружок, подолгу пропадая в школьных мастерских, где работал на токарном станке или фуганке с циркулярной пилой. Учитель труда, неторопливый и обстоятельный Сергей Иванович, называл его уже готовым токарем, позволяя пользоваться любым школьным инструментом и оборудованием. И когда летом после седьмого класса все ученики месяц работали в поле на прополке, Леха вместе с Иванычем все лето напролет занимался ремонтом школы, за что по ходатайству директора при всех на торжественной линейке 1 сентября был награжден почетной грамотой районного отдела народного образования. Ни у кого больше в селе не было такой грамоты, а у Лехи хранилась. Потом они с отцом поместили ее под стекло в лакированную рамочку, которую Леха сам и смастерил, и повесили в доме на видное место рядом с фотографиями многочисленных родственников.