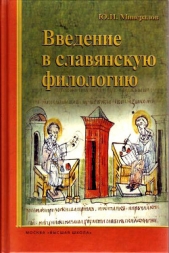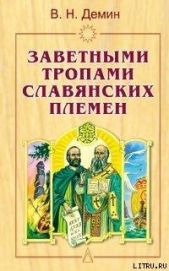Помощник. Книга о Паланке
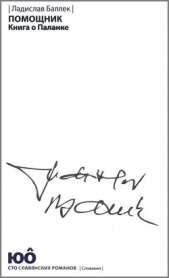
Помощник. Книга о Паланке читать книгу онлайн
События книги происходят в маленьком городке Паланк в южной Словакии, который приходит в себя после ужасов Второй мировой войны. В Паланке начинает бурлить жизнь, исполненная силы, вкусов, красок и страсти. В такую атмосферу попадает мясник из северной Словакии Штефан Речан, который приезжает в город с женой и дочерью в надежде начать новую жизнь. Сначала Паланк кажется ему землей обетованной, однако вскоре этот честный и скромный человек с прочными моральными принципами осознает, что это место не для него…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вышло солнце, и стало совсем тепло. Он слушал деревенский шум, близкие и знакомые звуки.
Вдруг за спиной у него раздалось:
— Что же ты не войдешь?
Речан, растроганный, встал, чтобы осторожно обнять мать, и в первый момент его ошеломила ее дряхлость. Она сказала, что увидела сына из передней комнаты. Потом провела через сени с печью в горницу с видом на цветник перед домом. У него не было сил даже вздохнуть. Она повернулась к нему, спросила, что его привело домой, и, не дожидаясь ответа, открыла перед ним низкую дверь с высоким порогом. Он коротко сообщил ей, что приехал просто так, снял ботинки, вошел, положил свои вещи и босиком прошел по коврам. Они покрывали дощатый пол, натертый мастикой, все пространство большой комнаты, обставленной массивной дубовой мебелью, изготовленной по заказу. Здесь господствовал порядок, чистота, строгая гармония красок. Блеск белых стен комнаты усиливали солнечные лучи, желтое дерево резной мебели, вышивки, расписные тарелки над угловой скамьей, красная скатерть на столе, зеленый кафель цилиндрической печи, большие, выглядевшие дорогими стенные часы из Амстердама, которые отец Речана тащил всю дорогу на коленях или на спине, чтобы они не попортились при толчках поезда. А над всем царила большая люстра из расписного фарфора, спускающаяся с массивной балки на позолоченных цепях.
Он был дома, и знакомый запах этой комнаты говорил ему об этом. Мать подошла к столу и с явным усилием отодвинула для него стул. Она была одета в черное, выглядела изнуренной: похудела и заметно постарела. Она велела ему садиться и спросила, будет ли он есть. Он отдал ей пакеты и корзину, согласно кивнул головой: мол, будет, со вчерашнего дня у него во рту маковой росинки не было. Она ждала, пока он сядет, одной рукой держа корзину, поставленную на стол, другой, задумчиво опустив взгляд черных глаз, которые были меньше ягодок терновника, разглаживала скатерть. Мать снова спросила его, почему он приехал. Он в нерешительности положил руки на стол, и она, увидев этот жест, перевела разговор на его усы, а он упорно размышлял, что бы ей ответить. Он мог начать с жалоб, но для этого время было неподходящее. Неопределенно кивнув головой, он уставился на окна и через них на улицу. Вверх по заросшей травой канаве тащились гуси. Она вздохнула и начала вспоминать, как несколько дней тому назад говорила Яно, что ему, Штефану, тоже, видно, живется несладко, так как ей то и дело попадает в глаза волос, и Яно ей ответил, что это, мол, ерунда. Она смолкла, задумалась, осторожно переступая с ноги на ногу, потом ушла приготовить ему яичницу с салом.
Он остался в одиночестве. Она приняла его, словно он ушел из дому только вчера. В конце концов, вот так же она встречала и своего мужа, их отца, как бы страстно ни ждала его. Бывало, задолго до его возвращения она теряла сон, вставала и до утра бродила по дому, что-то шепча, какие-то слова, может, милые, нежные, а может, молилась. Она всегда жила, так сказать, без единого узора, совсем просто, без красок и запахов, она не позволяла себе светских развлечений, зная, что при таком образе жизни никому не придет в голову назвать ее легкомысленной. Она была сдержанной и по отношению к детям, и именно поэтому они к ней тянулись. Больше всего сыновья, как это уж бывает, а ее старший сын, Штефан, еще и потому, что он как-то ничему не умел отдаться полностью и чем-то вдохновиться без остатка, кроме, конечно, своей семьи. А сейчас он вернулся к матери еще и как блудный сын, возвратившись к ее порогу через столько гор и долин, что это несравнимо даже с крестным путем.
Ему представился случай, к которому подсознательно стремится каждый мужчина: прийти и излить свои жалобы матери. События последних недель, получившие кульминацию вчера вечером и ночью, теперь навсегда сблизили его с ней. А мать? Разве есть для нее более заветное желание с того самого часа, когда уже не хватает сил качать своего первенца на руках? Он пришел посоветоваться, но прежде всего пожаловаться без стыда, смущения и умалчивания, чтобы снова почувствовать былое облегчение, самое глубокое из всех.
Что-то подобное мелькнуло у него в голове, и он уже начал ощущать облегчение. В нем взяла верх животная потребность поесть и отдохнуть. Теперь он не мог обманывать себя, само пребывание в этой комнате не позволяло ему этого, и, если бы что-то в нем зазвучало фальшиво, знакомые вещи вокруг мгновенно отреагировали бы на это.
Он думал о Паланке, и в нем крепло решение вернуться туда, но уже без чувства вины. Он вернется туда другим, люди, которые шантажировали его за прежние, давние грехи, сами тоже виновны, и вина их более поздняя по времени. Кроме того, они встали на ложный путь в ситуации куда менее сложной. Это частично избавляло его от сознания своей старой вины. Частично, но все равно его жена, она-то в первую очередь, уже не имеет права упрекать его в чем-либо. Она не лучше его, теперь — уже нет, ее безупречности пришел конец, да она вовсе и не хочет быть таковой, поэтому он сам займет первое место в доме, по праву более твердого человека, чтобы со временем стать в своей семье тем, чем была в отцовском доме его мать. И мать тоже поедет с ним! Во всем она будет с ним рядом. И он — рядом с ней.
У него хватило духа вдруг спуститься в такие глубины, которых в чуждом мире он боялся и избегал. Не моргнув глазом он справился с неожиданным прозрением: в его жизни произошло то, что в конечном счете должно было произойти. Может быть, он подсознательно вызвал это сам, чтобы окончательно освободиться от гнетущего чувства рабской зависимости от людей, которые благодаря незапятнанной совести были выше его, и чтобы избавиться от бремени, которое тяготило его в образе трагической судьбы ученика. И на самом деле! Его подчинение жене кончилось, словно его не существовало. Он получил утерянную свободу. Этой ночью он стал чужим своей жене, расплатился с ней, освободился от ее влияния, вышел из-под ее тени. Разве он не желал этого? Он всегда мечтал расплатиться с каждым. Не вызвал ли он свою беду сам? Он никак не может исключить подобное. Разве только однажды поддался он своей врожденной, вечной и, собственно говоря, самоуничтожающей жажде свободы, вольности и абсолютного равноправия? А этим унижением он и дочери заплатил за смерть ученика, хотя бы настолько, чтобы со временем рассчитаться со своей совестью. Это была жестокая дань, до конца жизни он не примирится с ее позором, но разве он не боялся, что судьба, в которую он так глубоко верил, потребует смерти за смерть? И не боялся ли он этого последние два года с особенной силой?
Речан в ужасе встряхнул головой, что это у него за мысли такие, и искал выхода, как бы поскорее избавиться от них. Он вспотел и застыдился, словно из его внутренностей вывалились грязь и муть. До сих пор Речан был убежден, что он не способен не только строить что-то, опираясь на зло, но даже и предполагать подобное. Речана поражала ясность и стройность его теперешнего мышления, и он не мог удержаться от некоторого чувства гордости.
Он застыл в тишине и перестал что-либо воспринимать. Из него как бы ушла вся эта невиданно сильная, но все же прекрасная энергия, и он снова стал тем неуклюжим мясником, замученным и запуганным, словно никогда в нем и не было того предыдущего момента, не совсем понятного, но справедливого суждения. Он закурил.
Вошла мать.
— Куришь? — спросила.
На доске побольше она несла краюху домашнего хлеба и тяжелую чугунную сковородку, от которой исходил запах яичницы с чертовски соблазнительным запахом жареного домашнего сала. Между пальцами она зажала узкое горлышко бутылки и рюмку на короткой ножке. Он, все еще смущенный, спросил, что она, не хочет, чтобы он курил? А она сказала ему, чтобы он налил себе. Он спросил, указывая на бутылку, не хочет ли она тоже. Мать удивленно посмотрела на него, придвинула к себе стул, осторожно села на краешек и стала смотреть в сторону, чтобы случайно не помешать ему во время еды. Она начала говорить не сразу, только когда заметила, что еда ему по душе. Яно, сказала она, гонит незаконно сливянку, не боится таможенников и жандармов, весь пошел в отца — и вздохнула: из-за этой самогонки он разбогател, но ей это не очень-то нравится. Она сделала паузу и вдруг вспомнила, как однажды у нее начал болеть желудок. Это была колика, она умирала, готова была на стену лезть, а отец и говорит, чтобы она взяла рюмку и спустилась в подвал к бочке, она что, разума лишилась, не знает, разве, как это в таком случае помогает? Она пошла, пойти-то пошла и рюмок не считала, но потом, господи! Ей хотелось только петь и петь. А отец? Так смеялся, что ходил, согнувшись, на руки падал, когда увидел ее сидящей верхом на бочке и поющей всякие песни. Она, мол, сидела на этой бочке, как смерть, которая опилась медом, чулки спущены… А потом начала реветь и причитать, ей показалось, что она превратилась в маленькую девочку. С тех пор, добавила мать, она больше никогда не превращалась в такую ярмарочную обезьяну. Рассказывая это, она даже не улыбнулась.