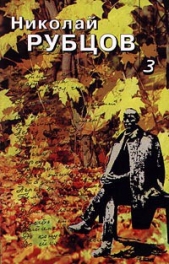Проза и эссе (основное собрание)

Проза и эссе (основное собрание) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В силах ли я побороть волнение, думая, что обнимаю свою мать и отца? Могу ли я отнестись к содержимому своего черепа как к тому, что осталось от них на земле? Возможно. Я, по-видимому, способен на такой солипсический подвиг. И полагаю, что лучше не противиться их сжатию до размеров моей, меньшей, чем их, души. Думаю, что справлюсь. Должен ли я промяукать в ответ, сказав себе "Киса"? И в какую из трех моих комнат должен я сейчас побежать, чтобы это мяуканье прозвучало убедительно?
Я -- это и есть они; я и есть наше семейство. И поскольку никто не энает своего будущего, не уверен, что однажды сентябрьской ночью 1939 года в уме у них промелькнуло, что они обеспечили себе выход. В лучшем случае, полагаю, они думали о том, чтобы завести ребенка, создать семью. Довольно молодые, к тому же рожденные свободными, вряд ли они понимали, что страна, где они родились, -- это государство, которое само решает, какая вам положена семья и положена ли вообще. Когда они поняли это, было уже слишком поздно для всего, кроме надежды. Что они и делали, пока не умерли: они надеялись. Люди, настроенные по-семейному, они не могли иначе: надеялись, старались, строили планы.
45
Мне хотелось бы верить, что они для своего же блага не позволяли надеждам зайти слишком далеко. Боюсь, мать все-таки позволяла; если это так, что объясняется ее добротой, отец не упускал случая указать ей на это ("Самое бесперспективное, Маруся, -- объявлял он, -- это прожектерство"). Что до него, то я вспоминаю, как солнечным полднем вдвоем мы гуляли по Летнему саду, когда мне было не то девятнадцать, не то двадцать лет. Мы остановились перед дощатой эстрадой, на которой морской духовой оркестр играл старые вальсы: он хотел сделать несколько фотографий. Белые мраморные статуи вырисовывались тут и там, запятнанные леопардово-зебровыми узорами теней, прохожие шаркали по усыпанным гравием дорожкам, дети кричали у пруда, а мы говорили о войне и немцах. Глядя на оркестр, я поймал себя на том, что спрашиваю отца, чьи концлагеря, на его взгляд, были хуже: нацистские или наши. "Что до меня, -- последовал ответ, -- то я предпочел бы превратиться в пепел сразу, нежели умирать медленной смертью, постигая сам процесс". И продолжал фотографировать.
1985
* Перевел с английского Дмитрий Чекалов
-----------------
Место не хуже любого
I
Чем больше путешествуешь, тем сложнее становится чувство ностальгии. Во сне, в зависимости от мании или ужина, или того и другого, либо преследуют нас, либо мы преследуем кого-то в закрученном лабиринте улиц, переулков и аллей, принадлежащих одновременно нескольким местам; мы в городе, которого нет на карте. Паническое беспомощное бегство, начинающееся чаще всего в родном городе, вероятно, приведет нас под плохо освещенную арку города, в котором мы побывали в прошлом или позапрошлом году. Причем с такой неотвратимостью, что в конце концов наш путешественник всякий раз бессознательно прикидывает, насколько встретившаяся ему новая местность потенциально пригодна в качестве декорации к его ночному кошмару.
Лучший способ оградить ваше подсознание от перегрузки -- делать снимки: ваша камера, так сказать, -- ваш громоотвод. Проявленные и напечатанные, незнакомые фасады и перспективы теряют свою мощную трехмерность и уже не представляются альтернативой вашей жизни. Однако мы не можем все время щелкать затвором, все время наводить на резкость, сжимая багаж, сумки с покупками, локоть супруги. И с особой мстительностью незнакомое трехмерное вторгается в чувства ни о чем не подозревающих простаков на вокзалах, автобусных остановках, в аэропортах, такси, на неспешной вечерней прогулке в ресторан или из него.
Наиболее коварны вокзалы. Сооруженные для вашего прибытия и отбытия местных жителей, они погружают путешественников, охваченных возбуждением и предчувствиями, прямо в гущу, в сердцевину чужого существования, стремящегося выдать себя за твое при помощи гигантских литер CINZANO, MARTINI, COCA-COLA, -- и эти пылающие письмена вызывают в памяти вид знакомых стен. А площади перед вокзалами? С их фонтанами и статуями Вождя, с их лихорадочной суматохой машин и тумбами афиш, с их проститутками, обколовшейся молодежью, нищими, алкашами, рабочими-мигрантами; с их такси и приземистыми шоферами, громогласно зазывающими на немыслимых наречиях! Беспокойство, гнездящееся в каждом путешественнике, заставляет его подмечать расположение стоянки такси на площади с большей точностью, чем расположение работ великого маэстро в местном музее -- потому что последний не обеспечит ему пути к отступлению.
Чем больше мы путешествуем, тем больше наша память обогащается топографией автомобильных стоянок, билетных касс, кратчайших путей к платформам, телефонных будок и писсуаров. Если не возвращаться к ним часто, то эти вокзалы и их ближайшие окрестности сливаются и накладываются друг на друга в сознании, как все, что хранится слишком долго, превращаясь в лежащего на дне нашей памяти гигантского кирпично-чугунного, пахнущего хлоркой чудовищного осьминога, которому каждое новое место прибавляет щупальце.
Существуют явные исключения: праматерь вокзалов, вокзал Виктории в Лондоне; шедевр Нервы в Риме или безвкусно-монументальное чудище в Милане; амстердамский Централь, где один из циферблатов на фронтоне показывает направление и скорость ветра; парижский Гар дю Норд или Гар де Лион с его умопомрачительным рестораном, где, поглощая превосходную canard1 под фресками а-ля Дени, вы наблюдаете сквозь огромную стеклянную стену отправляющиеся внизу поезда со смутным чувством метаболической связи; Хауптбанхоф рядом с районом красных фонарей во Франкфурте; московская площадь трех вокзалов, идеальное место, чтобы впасть в отчаяние и потеряться -- даже для того, чей родной алфавит -- кириллица. Однако эти исключения не столько подтверждают правило, сколько образуют ядро, или стержень, для дальнейших наслоений. Их своды и лестницы в духе Пиранези вторят подсознанию, возможно, даже расширяют его: во всяком случае, они остаются там -- в мозгу -- навсегда, в ожидании добавки.
II
И чем легендарней ваш пункт назначения, тем охотней гигантский осьминог поднимается на поверхность, питаясь с одинаковым аппетитом аэропортами, автобусными терминалами, гаванями. Хотя истинное лакомство для него -- само место. То, что составляет легенду -- изобретение или сооружение, башня или собор, захватывающая дух древняя руина или уникальная библиотека, -- идет первым делом. Наше чудовище пускает слюни на эти самородки, и то же самое делают проспекты турагентств, смешивая Вестминстерское аббатство, Эйфелеву башню, Василия Блаженного, Тадж-Махал, Акрополь и несколько пагод в броский и ускользающий от разума коллаж. Мы знаем эти вертикальные штуки до того, как увидим их. Но даже после того, как мы их увидели, мы сохраняем не трехмерный образ, а типографский вариант.
Строго говоря, мы помним не место, а открытку. Скажите "Лондон", и в уме, весьма вероятно, промелькнет вид Национальной галереи или Тауэрского моста с логотипом британского флага, скромно напечатанным в углу или на обороте. Скажите "Париж", и... Возможно, нет ничего плохого в снижении или подмене такого рода, ибо сумей человеческое сознание увязать и удержать реальность этого мира, жизнь его владельца превратилась бы в непрекращающееся наваждение логики и справедливости. По крайней мере, законы сознания это предполагают. Не способный или не желающий держать отчет, человек решает сперва двигаться и сбивается со счета, либо со следа того, что он пережил, особенно в энный раз. Результат -- не столько калейдоскоп или мешанина, сколько составное виде'ние: зеленого дерева, если вы художник; возлюбленной, если вы Дон Жуан; жертвы, если вы тиран; города, если вы путешественник.
С какой бы целью вы ни путешествовали: умерить свой территориальный императив, всласть насмотреться на творение, сбежать от реальности (хотя это чудовищная тавтология), смысл, конечно же, в том, чтобы подкармливать этого осьминога, требующего новых подробностей к каждому ужину. Составной город, где обретается -- нет, куда возвращается -- ваше подсознание, будет, поэтому, всегда украшен золоченым куполом; несколькими колокольнями; оперным театром а-ля Фениче в Венеции; парком с тенистыми каштанами и тополями, непостижимым в своем постромантическом просторном великолепии, как в Граце; широкой меланхоличной рекой, перекрытой, как минимум, шестью затейливыми мостами; парой небоскребов. В конечном счете город как таковой имеет ограниченное число вариантов. И как бы полусознавая это, ваша память подбросит гранитную набережную с обширными колоннадами из бывшей российской столицы; парижские жемчужно-серые фасады с черным кружевом балконных решеток; несколько бульваров вашего отрочества, тающих в сиреневом закате; готическую иглу или иглу обелиска, впрыскивающую свой героин в мышцу облака; а зимой -- загорелую римскую терракоту; мраморный фонтан; жизнь сумеречных пещероподобных кафе на перекрестках.