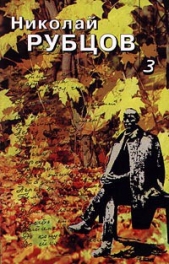Проза и эссе (основное собрание)

Проза и эссе (основное собрание) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Живя рядом с ними, я не замечал их старения. Теперь, когда моя память снует меж минувших десятилетий, я вижу, как мать наблюдает с балкона за шаркающей внизу фигуркой мужа, бормоча себе под нос: "Настоящий старичок, ей-богу. Настоящий законченный старичок". И я слышу отцовское: "Ты просто хочешь загнать меня в могилу", завершавшее их ссоры в шестидесятые годы вместо хлопанья дверью и шума его удалявшихся шагов десятилетием раньше. И, бреясь, я вижу его серебристо-серую щетину на своем подбородке.
Если мой ум тяготеет нынче к их старческому облику, это связано, по-видимому, со способностью памяти удерживать последние впечатления лучше прежних. (Добавьте к этому наше пристрастие к линейной логике, к эволюционному принципу -- и изобретение фотографии неизбежно.) Но я думаю, что мое собственное продвижение по пути к старости тоже играет здесь не последнюю роль: редко случается грезить даже о своей юности, о своем, скажем, двенадцатилетнем возрасте. Если есть у меня представление о будущем, оно создано по их подобию. Для меня они как "Здесь был Ося", нацарапанное на послезавтрашнем дне по крайней мере зрительно.
28
Подобно большинству мужчин, я скорее отмечен сходством с отцом, нежели с матерью. Тем не менее ребенком я проводил с ней больше времени: отчасти из-за войны, отчасти из-за кочевой жизни, которую отцу затем приходилось вести. Четырехлетнего, она научила меня читать; подавляющая часть моих жестов, интонаций и ужимок, полагаю, от нее. А также некоторые из привычек, в том числе курение.
По русским меркам она не казалась маленькой -- рост метр шестьдесят; белолица, полновата. У нее были светлые волосы цвета речной воды, которые всю жизнь она коротко стригла, и серые глаза. Ей особенно нравилось, что я унаследовал ее прямой, почти римский нос, а не загнутый величественный отцовский клюв, который она находила совершенно обворожительным. "Ах, этот клюв! -- начинала она, тщательно разделяя речь паузами. -- Такие клювы, -пауза, -- продаются на небесах, -- пауза, -- шесть рублей за штуку". Хотя и напоминавший один из профилей Сфорцы у Пьеро делла Франчески, клюв был недвусмысленно еврейский, и она имела причины радоваться, что мне он не достался.
Несмотря на девичью фамилию (сохраненную ею в браке), пятый пункт играл в ее случае меньшую роль, чем водится, из-за внешности. Она была определенно очень привлекательна североевропейским, я бы сказал, прибалтийским обликом. В некотором смысле это было милостью судьбы: у нее не возникало проблем с устройством на работу. Зато она и работала всю сознательную жизнь. По-видимому, не сумев замаскировать свое мелкобуржуазное происхождение, она вынуждена была отказаться от всякой надежды на высшее образование и прослужить всю жизнь в различных конторах секретарем или бухгалтером. Война принесла перемены: она стала переводчиком в лагере для немецких военнопленных, получив звание младшего лейтенанта в войсках МВД. После капитуляции Германии ей было предложено повышение и карьера в системе этого министерства. Не сгорая от желания вступить в партию, она отказалась и вернулась к сметам и счетам. "Не хочу приветствовать мужа первой, -- сказала она начальству, -- и превращать гардероб в арсенал".
29
Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася или Киса -- мои изобретения. С годами последние два получили большее хождение, и даже отец стал обращаться к ней таким образом. За исключением Кисы все они были ласкательными производными от ее имени Мария. Киса, эта нежная кличка кошки, вызывала довольно долго ее сопротивление. "Не смейте называть меня так! -восклицала она сердито. -- И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!"
Подразумевалась моя детская склонность растягивать на кошачий манер определенные слова, чьи гласные располагали к такому с ними обращению. "Мясо" было одним из таких слов, и к моим пятнадцати годам в нашей семье стояло сплошное мяуканье. Отец оказался этому весьма подвержен, и мы стали величать и обходиться друг с другом как "большой кот" и "маленький кот". "Мяу", "мур-мяу" или "мур-мур-мяу" покрывали существенную часть нашего эмоционального спектра: одобрение, сомнение, безразличие, резиньяцию, доверие. Постепенно мать стала пользоваться ими тоже, но главным образом дабы обозначить свою к этому непричастность.
Имя Киса все-таки к ней пристало, в особенности когда она совсем состарилась. Круглая, завернутая в две коричневые шали, с бесконечно добрым, мягким лицом, она выглядела вполне плюшевой и как бы самодостаточной. Казалось, она вот-вот замурлычет. Вместо этого она говорила отцу: "Саша, заплатил ли ты в этом месяце за электричество" Или, ни к кому не обращаясь: "На следующей неделе наша очередь убирать квартиру". И это значило мытье и натирку полов в коридорах и на кухне, а также уборку в ванной и в сортире. Ни к кому не обращалась она потому, что знала: именно ей придется это проделать.
30
Как справлялись они со всеми этими уборками, чистками, особенно в последние двенадцать лет, -- боюсь подумать. Мой отъезд, конечно, избавлял от одного лишнего рта, и они могли позволить себе изредка кого-то нанять. И все же, зная их бюджет (две скудные пенсии) и характер матери, сомневаюсь в этом. Кроме того, в коммуналках такое редко практикуется: естественный садизм соседей так или иначе требует удовлетворения. Родственнику это возможно, было бы позволено, но не наемной руке.
Хотя я и стал крезом с моей университетской зарплатой, они и слышать не хотели об обмене долларов на рубли. Официальный курс обмена считали надувательством; были слишком щепетильны и напуганы, чтоб иметь что-либо общее с черным рынком. Последняя причина оказалась, по-видимому, решающей: они помнили, как их пенсии были аннулированы в 1964-м, когда я получил свой пятилетний срок, и им пришлось снова искать работу. Итак, все свелось главным образом к одежде и книгам по искусству, поскольку было известно, что последние высоко котировались у библиофилов. Они получали удовольствие от одежды, особенно отец, который был не прочь ею щегольнуть. Книги, впрочем, они тоже оставляли себе. Чтобы рассматривать их после мытья коммунального пола в семидесятипятилетнем возрасте.
31
Их читательские вкусы были довольно пестрыми, притом что мать предпочитала русскую классику. Ни она, ни отец не имели твердых мнений о литературе, музыке, изобразительном искусстве, хотя в молодости были даже знакомы кое с кем из ленинградских писателей, композиторов, художников (с Зощенко, Заболоцким, Шостаковичем, Петровым-Водкиным). Они оставались просто читателями, так сказать, читателями перед сном, и аккуратно обновляли библиотечный абонемент. Возвращаясь с работы, мать неизменно приносила в сетке с картошкой или капустой библиотечную книгу, обернутую в газету, чтобы та не испачкалась.
Это она посоветовала мне, когда я шестнадцатилетним подростком работал на заводе, записаться в городскую библиотеку; и не думаю, что она при этом имела в виду только помешать мне болтаться вечерами по улицам. С другой стороны, насколько я помню, она хотела, чтобы я стал художником. Как бы то ни было, залы и коридоры того бывшего госпиталя на правом берегу Фонтанки стояли у истока моих невзгод, и я помню первую книгу, спрошенную мною там по совету матери. То был "Гулистан" ("Сад роз") персидского поэта Саади. Матери, как выяснилось, нравилась персидская поэзия. Следующей вещью взятой мной самостоятельно было "Заведение Телье" Мопассана.
32
Что роднит память с искусством, так это способность к отбору, вкус к детали. Лестное для искусства (особенно для прозы), для памяти это наблюдение должно показаться оскорбительным. Оскорбление однако, вполне заслужено. Память содержит именно детали, а не полную картину сценки, если угодно, но не весь спектакль. Убеждение, что мы каким-то образом можем вспомнить все сразу, оптом, такое убеждение, позволяющее нам как виду продолжать существование, беспочвенно. Более всего память похожа на библиотеку в алфавитном беспорядке и без чьих-либо собраний сочинений.