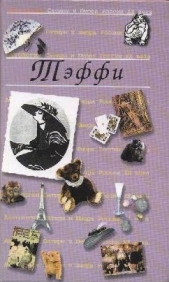Новый Мир. № 3, 2000

Новый Мир. № 3, 2000 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кроме того, Ступникова с самого начала, несмотря на свой юный возраст, отдает себе отчет в уникальности и значительности того события, участником которого ей довелось быть. Впервые в истории на скамье подсудимых оказались правители гитлеровского рейха, которые, руководствуясь преступной, бесчеловечной идеологией о превосходстве «нордической расы» над остальными, обрекли на страдания и гибель миллионы людей в оккупированных нацистами странах Европы.
Но при этом мемуаристку в ходе процесса часто не оставляет чувство сожаления, что подобный суд не был проведен в нашей стране, когда бы на позорной скамье оказались руководители советского государства и правящей коммунистической партии. С горечью она пишет: «По данным, обнародованным в 1996 году, всего лишь 50 (!) работников огромного сталинского аппарата насилия и террора были после смерти диктатора привлечены к уголовной ответственности… На моей многострадальной Родине было совершено немало преступлений, но Нюрнбергского процесса у нас не было и нет. Может быть, поэтому в России ныне остались только жертвы и нет палачей».
Не случайно поэтому Ступниковой особенно запомнились два случая в ходе судебного разбирательства, которые вызвали резкое недовольство Сталина, ибо они развивались не так, как намечалось по советскому сценарию. (Кстати, тут уместно напомнить один малоизвестный факт, который приводит в своих записках Ступникова: во время работы Международного трибунала при ЦК ВКП(б) была создана специальная комиссия по руководству Нюрнбергским процессом. И возглавлял ее сам Вышинский. Но даже эта комиссия оказалась не в состоянии изменить «незапланированное» развитие событий.) Первый такой эпизод связан с оглашением в зале суда Секретных протоколов, подписанных Молотовым и Риббентропом осенью 1939 года во время визита гитлеровского министра иностранных дел в Москву. Тем самым миру стало известно, что два диктатора, Гитлер и Сталин, вступив в преступный сговор, прибегли к новому разделу Польши. Что касается прибалтийских государств, то Гитлер «уступил» их Советскому Союзу.
Второй сходный эпизод, вызвавший особый гнев Сталина, связан был с массовым расстрелом польских офицеров в Катынском лесу под Смоленском. Советская версия, что данное преступление — дело рук гитлеровцев, была практически опровергнута. В ходе судебного разбирательства и допроса свидетелей многим из присутствовавших в зале Дворца правосудия стало ясно, что этот расстрел — спецоперация НКВД. У самой Ступниковой и ее коллег-переводчиков на этот счет сомнений не возникало.
Впрочем, как уже отмечалось выше, главное в мемуарах Ступниковой — это, пожалуй, не отдельные эпизоды и детали (сами по себе крайне интересные и важные). Главное, думается, — общая их тональность и настрой. Они написаны в откровенной, исповедальной манере, как бы для себя, для узкого круга близких друзей, до которых автор жаждет донести свои тогдашние переживания, ощущения и наблюдения, свое восприятие того, что происходило на ее глазах в зале суда.
Эта искренность, даже некоторая наивность, свойственная молодой девушке, как раз и составляет одну из наиболее сильных сторон этих записок. Все это не придумаешь, не присочинишь задним числом. Автору предстояло предварительно пережить все это, перечувствовать и сохранить глубоко в душе до лучших времен, когда наконец ей представился случай изложить все пережитое на бумаге, не замалчивая того, что она там видела и слышала. Изложить, уже не опасаясь того, что за свою откровенность, резкость суждений она может дорого поплатиться.
Есть своя закономерность в том, что эти мемуары появились только теперь — полвека спустя. В итоге читатели получили волнующую книгу, и мемуаристка вправе была озаглавить ее словами, позаимствованными из Нюрнбергской присяги, которую она давала, приступая к своим обязанностям переводчика-синхрониста: говорить только Правду и ничего, кроме Правды…
Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах
«Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7),
«Библио-глобус» (Мясницкая, 6),
«Гилея» (Большая Садовая, 4),
«Графоман» (ул. Бахрушина, 28),
«Книжная слобода» (Новослободская, 14/19),
«Летний сад» (Большая Никитская, 46),
«Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54),
«Паолине» (Большая Никитская, 26),
«Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».
Полка Кирилла Кобрина
В. В. Набоков. Русский период. Собрание сочинений в 5-ти томах. Т. 1. Составление Н. Артеменко-Толстой. Предисловие А. Долинина. Примечания М. Маликовой. СПб., «Симпозиум», 1999, 832 стр.
Теперь, благодаря этой увесистой (и прекрасно сделанной) книге, мы знаем, из какого литературного сора вырос чистый, ясный, гибкий, сильный голос набоково-сиринской прозы золотой поры. Ни «Машенька», ни рассказы из сборника «Возвращение Чорба» на роль той ранней чепухи, которую стыдливо прячут, а то и жгут, скупив по лавкам все экземпляры, не тянули — больно хороши. Теперь Набоков обрел своего «Ганса Кюхельгартена». Читатель, которому уже несколько наскучило бесконечное совершенство (и некоторый бойскаутский задор) набоковской прозы, может злорадно подхихикивать над такой, например, присказкой: «И подумай только: никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру. Родные реки печальны, ничья резвая рука не расплескивает лунных заблестков, сиротеют, молчат случайно не скошенные колокольчики…»
Это, конечно, не значит, что 1-й том собр. соч. Сирина распух от сенсационных открытий. Отнюдь. Почти все набоковское «раннее» уже печаталось то в питерской «Звезде», то в томе сиринских стихов, то отдельным изданием (перевод Кэрролла). И все же. Собранные вместе сочинения 1918–1925 годов («крымского», «кембриджского», «раннеберлинского» периодов) воссоздают тот контекст, тот хаос, ту многоголосицу влияний, из которой родилась удивительная набоковская мелодия. А уж впадает ли в холодную ярость сам скрытный автор — там, в райских кущах, подозрительно похожих на окрестности Выры, — нам неизвестно.
(Только что вышел 2-й том этого издания. Как я и предполагал, открытий там нет. Обычный гениальный Сирин.)
Сага об Эгиле. Серия «Личная библиотека Борхеса». Предисловие Х.-Л. Борхеса. Перевод с исландского. СПб., «Амфора», 1999, 315 стр.
Можно объяснять любовь Борхеса к скандинавским сагам жадным любопытством интеллигентного мальчика к жестоким дракам во дворе. Обожанием, с которым очкарик смотрит на хулигана. Тайным комплексом вины слепца-белобилетника перед кабальеристыми предками-героями южноамериканских войн. Тем более, что есть у Борхеса рассказ «Юг», где alter ego автора, чуть было не ослепший библиотекарь Дальман, выходит биться на ножах с забубенным «куманьком».
Но мне кажется, дело в другом. Скандинавские саги были для Борхеса (особенно зрелой и поздней поры) чуть ли не эстетическим эталоном прозы. Путь от барочной экспрессии к суховатой, экономной, точной, энергичной прозе Борхес проделал явно не без оглядки на саги, из которых он выделял «Сагу об Эгиле». Именно она включена в «Личную библиотеку» автора «Вавилонской библиотеки».
В эссе «Удел скандинавов» Борхес воспевает «реализм саг». Там же он говорит: «В XII веке исландцы открыли роман, искусство норманна Флобера». Думается, что в XX веке аргентинец Борхес закрыл это искусство, спрессовав роман в микроновеллу или короткое эссе. Так что появление «Саги об Эгиле» в «Личной библиотеке Борхеса» символично вдвойне.
В. Гандельсман. Эдип. Стихи. СПб., «Абель», 1998, 104 стр.
Поэтам очень полезно выпускать свое «Избранное». Лучше бы — несколько «Избранных», чтобы по тому, что «избрано» на сей раз, безошибочно судить о нынешнем поэтическом самочувствии автора-составителя. В этом смысле «Эдип» — очень важная для Владимира Гандельсмана книга. Она вышла одновременно с другим «Избранным» поэта — книгой «Долгота дня» (только почему-то в продаже появилась чуть ли не через год — в 1999-м). Двойняшки совсем не похожи друг на друга. «Долгота дня» — прозрачна и в то же время сдержанна. «Эдип» — книга «густая», полная запрятанной страсти, алчбы. По «Эдипу» можно проследить и движение поэта. Маршрут этого движения таков: от некоторой избыточности, наплывов и напластований образов, запахов, звуков, от железнодорожной станции на юге, со свистками, шипением паровоза, украинской скороговоркой, задорными воплями «ты шо!», с ума сводящим запахом подгнивших фруктов, с обморочной белизной незагоревших полосок на плечах девочки из соседнего купе к вечно подпростуженному, с закутанным горлом, советскому, детскому Ленинграду, оставшемуся там, позади, в рамочке исторической хронологии. Таков путь «Эдипа» — спиной вперед, пятясь, всматриваясь, внюхиваясь, вслушиваясь в прошлое. Впрочем, сам поэт считает иначе: «Тихий из стены выходит Эдип, / с озаренной арены он смотрит ввысь…»