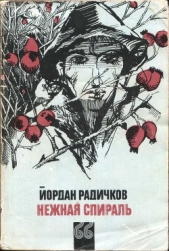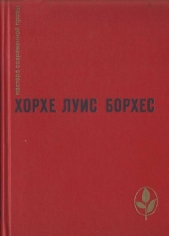Избранное
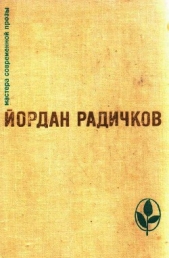
Избранное читать книгу онлайн
В книгу включены повесть «Все и никто», интересная масштабностью нравственной проблематики, рассказы из сборника «Пороховой букварь», удостоенного Димитровской премии, — об участии болгарского народа в борьбе против фашизма, — а также несколько лирических новелл. Это наиболее талантливые произведения писателя, характеризующие его как выдающегося мастера современной болгарской прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кто бы ни вошел в церковь, сначала остановится посмотреть на локомобиль и на Николу Турка, а потом уж пройдет дальше и уставится на преисподнюю. По праздникам народ входит тихо, почтительно и набожно крестится перед святыми отцами, затем, отдав должное ритуалу, с интересом разглядывает ерусалимки и древнюю ерусалимину, принесенную старым отцом Киро из Макоцева имения, а под конец толпится перед преисподней, чтоб рассмотреть ее во всех подробностях. И с таким интересом рассматривает преисподнюю наш народец, будто изучает свое будущее!
Ударив последний раз в колокол и так и не увидев Йону и его родственника, монах стал спускаться со звонницы. Лестница, такая же старая, как и вся постройка, заохала и зарычала — монах потревожил ее глубокий сон. Вся она была сколочена из одного и того же дерева, но одна ступенька не походила на другую, у каждой был свой характер или, как объяснял монах Йоне и его родственнику: «У всего свой образ и подобие». Первая ступенька встретила монаха недружелюбно, словно он наступил ненароком на спящую собаку, и монах не любил эту ступеньку, называл ее собачьей, и следующую тоже не любил — она тоже недружелюбно зарычала под его ногами. Лишь на третьей ступеньке он остановился, он всегда на ней останавливался, потому что она с тихой набожностью отзывалась на его шаги: «Ох, господи!» Четвертая ступенька проскулила и умолкла, пятая в знак протеста против того, что на нее наступают, зашевелилась в своих рассохшихся пазах, шестая пренебрежительно процедила: «И это пройдет!», седьмая зевала и не могла решить, рычать или не рычать на ступившего ей на спину монаха, и, пока она решала, он уже был на следующей, застывшей в гордом молчании.
Именно с нее и видна была вся ерусалимка, и Доситей всегда приостанавливался на этой ступеньке, прежде чем спускаться дальше по скулящей и скрипящей зубами лестнице. Он заметил, что, когда он поднимается наверх, лестница, хоть и не проявляет особого дружелюбия, все же относится к нему с большей терпимостью, а когда он спускается, она заполняет весь узкий проем ропотом и протестами. «И с житейской лестницей то же самое, — подумал монах, — она молча возносит тебя наверх и со скрежетом зубовным и собачьим лаем провожает вниз».
Монах спускался по лестнице, держа в одной руке луженое медное ведерко, бренчавшее при каждом его движении, а в другой — пучок базилика, перевязанный красной ниткой. Ни одна трава так сильно не пахнет смертью, как базилик, но монах, упиваясь благоуханием базилика, даже не замечал дурманящего напоминания о смерти. Запах базилика его успокаивал. Монах шел с луженым медным ведерком доить большеголовую рыжую козу; он слышал, как она верещит в сушильне для слив, временно превращенной в хлев, так как монастырек давно уже перестал производить чернослив и мармелад. Когда ерусалимка встала у монаха перед глазами, он остановился и почесал базиликом бороду. В южные окна белыми снопами лились солнечные лучи, затопляя картину щедрым светом, и изображенные на ней фигуры стали вдруг необычайно яркими.
Раввины, все до одного в длинных кожаных чулках, в коротких кафтанах с кожаными опоясками, с длинными бородами, доходящими до опоясок, склонившись над нагим младенцем, залитым обильным светом, не сводили с него глаз, непохожих ни на арабские, ни на азиатские, — было видно, что это народ древний, ветхозаветный, а обряд, который они совершали, показался Доситею еще более древним, вероятнее всего языческим, отмеченным варварским металлическим знаком. В былые времена паломники, возвращаясь из Иерусалима, привозили с собой купленные у гроба господня картинки с библейскими сценками, картинки эти нарисованы очень наивно, но считаются святыми, потому что привезены из Иерусалима. Народ назвал их ерусалимками. Таким же образом, но уже позже, народ назвал ткань, привезенную из Америки, американом; ткань, привезенную из английского города Оксфорда, — оксфордом, и так они до наших дней и называются: американ и оксфорд. Допустив их в церковь и назвав ерусалимками, наш народ выказал свое добродушное отношение к этим картинкам с неведомыми раввинами, вооруженными страшными орудиями обрезания, и в то же время самым их названием отделил их от наших отечественных икон.
Ерусалимку, изображающую обрезание Иисуса, отличали непререкаемая категоричность, вероломное отклонение от святых канонов, азиатское иконоборчество и прочее — не знаю уж, как сказать точнее, а привез ее дед Тодора Ханымы, высокий горец с серо-зелеными глазами. В селе Старопатица он был единственным паломником. У Тодора Ханымы, которого все называли Аныма, так как в этих краях буква «х», когда она стоит в начале слова, проглатывается и не произносится, например: христиан называют «ристиане», «хлеб» — «леб», «хитрец» — «итрец» и т. д. и т. п., так вот у Тодора Анымы были такие же глаза, как у его деда, паломника, — серо-зеленые, с поволокой, тонущие в полумраке; они очень напоминали глаза северной утки, печальные и властные, окутанные тайной, да и сам Тодор, казалось, всегда чем-то окутан, и лицо его как бы полуприкрыто, словно он хочет доказать, что ему не зря дали такое имя [17].
Тодор Аныма не кидал беглые взгляды на попадавшиеся ему предметы, как это делает человек слабый, который хочет понять, каких предметов ему следует бояться и какой предмет или животное он должен заставить бояться себя, наоборот — взгляд Тодора Анымы обволакивал предметы со всех сторон; так весной болота обволакивают все предметы на берегах своими испарениями, окрашивая их в болотный цвет; при этом зеленоногая лысуха перестает быть зеленоногой лысухой, а превращается в таинственного водяного духа, бекас перестает быть бекасом, а становится беглой мыслью, внезапно блеснувшей и внезапно исчезнувшей, не оставив в сознании никакого следа, по тростнику проходит гармоничный трепет, подобный трепету женских бедер, водомерка босиком бежит по воде, не намочив ног, — с чем побежит, с тем и вернется. Именно при таких обстоятельствах человек, оказавшийся среди болот, начинает понимать, что болота не только порождают жизнь, но и затягивают, и поглощают жизнь, он сам чувствует, как его окружают со всех сторон, поэтому он подается на шаг или два назад, опасаясь, как бы его не затянуло. Вот таким же образом и Тодор Аныма обволакивал предметы со всех сторон, более того — мне кажется, что таким образом он втягивал их в себя.
Доситей увидел в глубине церкви, за ерусалимкой, локомобиль и Николу Турка в мученически разодранной на груди рубахе, увидел их словно бы издалека, а рядом с ними увидел спину человека, стоявшего перед преисподней.
— Йона! — воскликнул монах. — Откуда ты взялся, Мокрый Валах, как это я тебя не заметил?
Человек обернулся, и Доситей смутился, увидев, что это не Йона.
— Я не Йона, — сказал человек сиплым голосом, — и уж тем более не Мокрый Валах! — Незнакомец откашлялся.
— Извините, — сказал Доситей, — я принял вас за Йону, потому что я жду его, но теперь я вижу, что у вас нет с ним ничего общего… Откуда вы?
Незнакомец согласился с монахом, что у него с Йоной нет ничего общего, сказал, что он ниоткуда или из Софрониева, и почти улыбнулся.
Доситей, еще не оправившись от смущения, разглядывал незнакомца. «Как так — ниоткуда?» — думал он. Незнакомец был одет в темно-зеленый китель и серые брюки-галифе, сильно выцветшие — скорее белесые, чем серые. На ногах у него были здоровенные красные туристские башмаки с задранными носами. Ранний посетитель снял фуражку с красным околышем и остался стоять на фоне преисподней с непокрытой головой. Доситей перестал чесать базиликом свою бороду и заткнул пучок в ухо медного ведерка (латунные кольца, в которые вдевается ручка ведра, называют ушами). Когда он затыкал пучок базилика в ухо медного ведерка, пустая посудина звонко задребезжала, и незнакомец, явившийся ниоткуда и стоявший до тех пор вполоборота, повернулся к монаху лицом. Солнце светило ему в спину, так что монах против света плохо видел его лицо, но зато очень отчетливо видел белесую фуражку с красным околышем, которую тот держал в руках. Вытянутая, остроконечная голова незнакомца была коротко острижена.