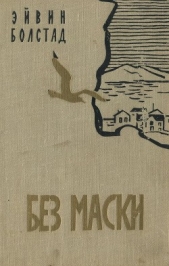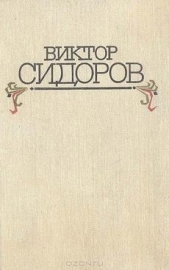Кормление старого кота. Рассказы

Кормление старого кота. Рассказы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Солнышко-оо! – закричал маленький сын Стаховского, и вся компания повалила по улице.
ИСТОРИЯ ПРО БУНИНА
Пришла пора сдачи заказа, и меня отправили в командировку.
Возвращаться пришлось вдвоем. Вместе со мной с военного объекта ехал толстый военпред, шелестевший фольгой от курицы. Когда стемнело, он забрался на верхнюю полку и, открутив на полную мощность свет, стал читать вслух Бунина. Поезд шел где-то у
Подольска, совсем недалеко от Москвы, а прибывал в три.
Я еще надеялся поспать хоть час, меня клонило в сон, а военпред бубнил над ухом, сморкался, вскрикивал от восхищения:
– Ну ты смотри, ты смотри!.. Вот любовь, а?!
Я сразу возненавидел его.
– Плачут, мучаются, – продолжал он. – Моя вот, как женился, ни разу не плакала. Ни слезинки не дал пролить, вот! А тут – возлюбленная нами, как никакая возлюблена не будет… Ну чисто дети… Дела-а.
Возлюбленная нами, подумал я. Возлюбленная нами, как…
Тогда мы лежали на узком диване. Это было ворованное время, и лишь к двум часам ночи мы понимали, что никто нам не помешает.
Мы так уставали, что сил ни на что уже не оставалось, но уснуть уже не могли и курили, передавая сигарету друг другу.
В головах я ставил маленький приемник, взятый без спроса у одного моего друга. Мы отчаивались разобрать русскую речь
“Свободы” в грохоте глушилок и начинали искать музыку. Через пять минут волна почему-то менялась, и приемник одиноко звенел на столе.
Обычно я лежал ближе к стене. Однажды она внезапно крепко прижалась ко мне, и я почувствовал, что она плачет. Мне не хотелось ее ни о чем спрашивать, есть вещи, о которых нельзя спрашивать. Тогда я стал губами сушить ее мокрые веки, чувствуя, как она успокаивается.
Мы были совсем дети, жаловались друг другу, ссорились, как дети, и надували губы, как дети, и сейчас она обнимала меня, как большой ребенок.
Беззащитный запах волос, подтянутые к животу колени – все выдавало в ней ребенка, хотя мы считали себя совсем взрослыми.
Той ночью на улице мело, и в комнату проникал белый свет от снега, ставшего стеной за окном. Когда стало светать, она наконец уснула, уткнувшись носом в нашу единственную подушку.
Дождавшись этого, я сразу же провалился в забытье, успев подумать, что мы все-таки украли эту ночь.
Я успел подумать, что любовь – это воровство, она вне закона и, не украв, нельзя любить.
А утром нам снова никто не помешал, мы спали долго, а проснувшись, вышли из дома не позавтракав.
Через два года она уехала, а еще через год ее и случайного попутчика, сидевших в автомашине у бензоколонки в пригороде
Рамаллаха, расстрелял в упор, прямо через ветровое стекло, какой-то палестинец.
Отчего-то я хорошо представляю, как бился в его руках
“калашников” и осыпался внутрь машины белый, сразу ставший непрозрачным триплекс.
Хотя нет, у меня еще есть надежда: один из знакомых недавно видел ее в метро, а другой рассказывал мне, что столкнулся с ней у автобусной остановки.
Я думаю, что она вернулась в Москву, и я непременно встречусь с ней, как только мы приедем.
Наверное, она случайно окажется на вокзале, когда я, отпихнув своего толстого попутчика, вылезу из вагона.
Пусть он читает Бунина и радуется своей жизни – что нам до него?
Она будет там, думал я.
Куда она могла уехать?!
Конечно, она будет там, возлюбленная мною, как никакая другая возлюблена не будет.
ЧИТАТЕЛЬ ШКЛОВСКОГО
Читаю Шкловского.
Он пишет о своем детстве.
Все воспоминатели начинают с этого.
Шкловский пишет: “Фамилии подрядчика не помню, фамилия архитектора, про которого не рассказывали анекдотов, – Растрелли”.
Это про Смольный.
Анекдот появился. “Архитектор – расстрелян”.
Еду в метро, пересаживаюсь и снова еду.
В тупиковом конце станции на скамейке сидят двое – худощавые серьезные ребята лет двадцати. Заполняют какие-то ведомости, бланки, говорят о своем, спокойно и неторопливо.
В руках у одного вдруг мелькает пачка денег. Присмотревшись, вижу, что это аккуратная банковская упаковка сторублевок. А сторублевки… “Сто штук по сто, – соображаю я, – это десять тысяч рублей”.
И иду дальше.
Мимо меня, встречным курсом по эскалатору, спускаются иностранцы.
Кепки на них русские, майки с изображением университета, но продолговатые лица, загорелые и ухоженные, сразу дают понять – иностранцы.
И эта речь – невнятно доносящееся голубиное воркование английской речи: орри, хайрри, райрри…
Я читаю Шкловского в метро, по дороге на дачу.
Надо мне на даче ночевать, а вернувшись в Москву, еще заехать кое-куда.
Я еду в метро, а напротив меня сидят две уверенные в себе женщины. Сидят и о чем-то болтают, помогая себе взмахами рук с длинными пальцами. На пальцах – тоже длинные, хорошо наманикюренные ногти.
Лицо одной из них покрыто бронзой южного загара, который выглядывает также в зазор между белым носочком и брюками.
Одеты женщины дорого – в тонкую черную кожу, тонкие свитера, с тонким золотом на пальцах.
На ногах – роскошная спортивная обувь.
Едут напротив меня две дорогие женщины.
Я читаю Шкловского сидя на станции.
На платформе, опустив огромные уши по щекам, стоит собака. Я знаю, что эту собаку зовут бассет-хаунд.
Знаю, хорошая это собака.
Проходит поезд. В специальном окошечке на переднем вагоне написано: “Нахабино”. Этот поезд можно пропустить.
Я читаю дальше. Вот подошел другой.
Теперь в окошечке написано: “Волоколамск”.
Я вхожу в вагон.
Часто, приехав на дачу, я заставал дверь закрытой – дед с бабушкой спали после обеда. Тогда я уходил на грядки – кормиться.
В конце крохотного участка, около леса, росла малина, и было похоже, что по ней уже погулял медведь.
Росли бестолковые кусты черной смородины.
Я ел и дожидался, когда дверь откроется.
И это было детство.
Во всяком учреждении есть такое место, где люди собираются кучками и курят. Если рядом есть буфет, то они пьют светло-коричневое пойло. Называется оно – кофе.
Одно такое я помню очень хорошо.
Имя его было – “сачок”.
Почему “сачок” – непонятно.
На даче же стояла сторожка – зимний дом с печью.
На ступеньках сторожки, под крышей, мы курили в детстве.
Сменилось уже несколько поколений, своими джинсами вытирая ступеньки сторожки.
Вот я подхожу к нашим наследникам.
– Здравствуй, Володя, – говорит мне девица сексуального вида.
Лежит она, закинув на стену длинные красивые ноги.
Под головой у девицы лежит какой-то мальчик.
– Здравствуй, здравствуй, – говорю я и медленно подхожу ближе…
Я читаю Шкловского и думаю о любви.
Нет, не о любви я думаю, а о привязанности.
Шкловский пишет о любви – а получается о литературе.
Так и мои письма превращаются в дневники, а дневники превращаются в письма.
Женщина, которой писал Шкловский, в его воображении отвечала так:
“Любовных писем не пишут для собственного удовольствия…”
К друзьям для собственного удовольствия не пишут тоже.
Зачем я позвонил?
Непонятно.
Позвонил и договорился о встрече.
И не то чтобы у меня были какие-то надежды, совсем нет. Или, наоборот, я ей нравился…
А вот – начал прибирать квартиру.
Пыхтя, залез с тряпкой под диван.
Выбрался из дома и купил на рынке килограмм помидоров за семь рублей и огромный блин мадаури – грузинского хлеба.
Я добросовестно выходил встречаться с ней к метро.
Изредка накрапывал дождик – большими и крупными каплями.
Дождь выбрасывал в воздух эти капли и на время успокаивался.
Книга писем Шкловского к одной женщине, любимой им, называется
“Zoo”.
Zoo – это зоопарк.
Моя одноклассница, ставшая потом преподавателем истории КПСС, называла зоопарк тюрьмой зверей.