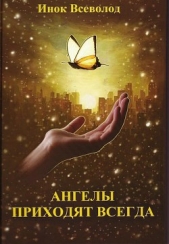Ангелы приходят и уходят

Ангелы приходят и уходят читать книгу онлайн
Повесть о любви. Посвящается всем, кому выпало любить безответно. Всем, продолжающим любить…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Белый халат приблизился к Ковалеву и стал быстро опутывать его бельевой веревкой.
— Что же, я уже умер? — спросил Ковалев.
— «Умер, родимая, умер, сердешная, умер, — и в землю зарыт», как написал большой русский поэт, — подтвердил хилый.
— А как я умер? Когда?
— Обыкновенно. Внезапно. В баню вы пошли со своим другом — помнишь?
Ковалев начал лихорадочно вспоминать. «Да-да, точно… Баня была… Полки скользкие, кафельный пол… Помню, Генка меня под кран с холодной водой подтаскивал. Да спьяну, скот, включил кипяток. Только мне все равно уже было… А потом он им кричал — остальным — уймитесь, гады, Витёк загнулся…».
— Меня уже похоронили? — чужим голосом спросил он.
— Угу, — кивнула Шляпа.
— А где?
— Ну, там… Не на Марсовом же поле, и не у Кремлевской стены.
— А потом что будет?
— В смысле?
— Ну, потом? После?..
— А ничего. Кладбище закроют. Нужных покойников на новое местожительство определят. А вас, мелочь разную, так оставят. Лет через пятьдесят уже и следа не останется. И дома построят. И опять будут жить да грешить… Се ля ви!
Ковалев захрипел: туго натянулась опутавшая его веревка.
Хилый расстелил на столе свежую скатерть, расставил тарелочки с закуской, в центр стола водрузил запотевшую бутылку водки. Гости сели к столу. Разлили, один стакан отставили в сторону. Толстый сказал:
— Мы провожаем сегодня в последний путь… Как его?
— Квасова, — подсказал хилый.
— Вот именно. Помянем подонка.
И опрокинул стакан в горячую красную глотку.
«Но я же жив еще!» — хотел закричать Ковалев и не смог. Потому, что тело его осталось на диване а сам он парил над ним, зная, что тело его в этот момент досматривает свой последний в жизни сон.
…Он снова очутился в своей комнате, пустой и темной, и радиодиктор, сдерживая волнение, рассказывал о вводе в строй действующих нового моста на трассе БАМа.
Ковалев сполз с дивана, прижался щекой к холодному полу. Вспомнился «Танец смерти» Сен-Санса, и под эту плавную, совсем не страшную музыку его стало раскачивать — вместе с диваном, с комнатой, с желтыми фонарями за окном.
Музыка погасла, он снова задремал, и оказался на улице.
Сияли фонари, отражаясь в мокром черном асфальте, брели редкие прохожие, вдали, над вокзалом, светилось табло часов.
«Чего это я сюда выкатился? — удивился Ковалев и тут же вспомнил: — Ах да, я же бабу Аню ищу».
Он вернулся во двор, прошел мимо детской площадки и увидел бабу Аню. Она шла навстречу в старом зимнем пальто, держа в руке привычную плетеную котомку.
— Здравствуй, баба Аня! — обрадовался Ковалев. — А я тебя ищу!
— Здравствуй, внучек… Хоть ты обо мне вспоминаешь. А вот что ищешь меня — это плохо, плохо. Ты ведь молодой совсем, молодой…
Ковалеву послышался в ее словах какой-то иной, страшный смысл, но он отмахнулся от него.
— Сколько лет тебя не видел, — сказал он. — А ты куда? В магазин?
— Нет. В магазины мы не ходим.
— А куда? В гости?
— И по гостям не ходим.
— Так куда же ты идешь?
— Да и не иду я, милый, никуда. Лежу. Давно уже лежу…
Ковалев вздрогнул.
— Ты не пугай меня, пожалуйста.
— Прости, внучек, прости. Три года уже прошло, а проведать только раз приходили.
— Я не знал, что ты переехала, — сказал Ковалев. — Я бы пришел.
— А вот ты и пришел. Мы ведь не умираем — мы переезжаем. И недалеко. Здесь мы, рядом вот.
— Ты умерла, баба Аня! — закричал Ковалев. — Что ты говоришь? Похоронили тебя!
— Это живые так думают: похоронили — и нету нас. А мы не умерли — уехали. Недалеко. Но навсегда.
Сердце скакнуло, замерло, и сильно застучало в груди Ковалева так, что стало больно дышать.
— Ты прости, баба Аня. Я пойду. Я…
Он стал срывать с горла душивший его шарф, а у бабы Ани изменилось лицо, и вдруг он понял, что это лицо — его собственное. Это чужое ему существо стало наступать на него и посыпало словами тонким бабьим голосом:
— С переездом-то как намаялась! Там очередь, тут очередь. Везде жди, и не смотрят, ветеран ты или нет. И хамят по-нашему, и никто места не уступит в очереди, и еще матом кроют. И пожаловаться ведь некому — ни тебе райкома, ни милиции, ни совета ветеранов. И документов на руки не дают, кроме справки из ЗАГСа, а в справке не сказано ведь, каким ты человеком-то был, так что никому никакого различия, ни уважения!
Защищаясь от этого нарастающего пронзительного голоса, Ковалев замахал руками, поскользнулся и полетел прямо затылком на асфальт. Бац!
Он застонал и рывком поднялся. Он лежал на полу, рядом с диваном.
— Тьфу, черт! — ругнулся он и поднялся.
Включил свет, открыл балконную дверь. Уличный шум ворвался в квартиру вместе с запахами выхлопных газов и сырости.
Закурил, глядя на светившиеся окна напротив.
«Хорошо людям. С работы пришли, детей из садика привели. Ужинают, газеты читают, радио слушают. Будто и нет никакого Хаоса, будто не плещется он с улицы, не бьется в окна… А вон там настольная лампа горит. Там часто лампа горит, иногда всю ночь. А в этом окне женщина стелит постель. Молодожены. Не терпится. А вон на балконе целая компания. Курят, орут чего-то… Празднуют окончание пятилетки. Ишь, развеселились. А может, поминки у них? Должно быть, скоро подерутся…».
Внизу со звоном открылась балконная дверь и пьяный мужской голос заорал во тьму:
— Лар-риса! Лар-риса!.. Вернись, падла! Все прощу!
Это был сосед, алкаш Вова, от которого, наверное, только что ушла очередная жена.
— Ларис-са! Ведь я тебя, курва, люб-лю! Слышь ты, блядь? Люб-блю!..
Но никто не откликнулся с улицы. Только шумел транспорт, гудели троллейбусные провода, да вдали, над вокзалом, мертвые часы равнодушно считали минуты».
…Ковалев бежал по длинному, бесконечному коридору, скудно освещенному, с рядами белых дверей по обеим сторонам. Он стучал в одну дверь, в другую, но грохот собственного сердца заглушал этот стук, и не было ответа. Он бежал, торопясь отыскать кого-то, без кого ему нельзя, невозможно было жить дальше.
От бесконечного мелькания дверей перед глазами у него закружилась голова. Двери были совершенно одинаковы, и все заперты, заперты, заперты. Он колотил в них кулаками, но никто не отзывался.
Он стал кричать, сердце выскакивало из груди — и вдруг налетел на глухую стену в драных обоях, споткнулся о толстые подшивки газет и упал. В стене появилась трещина, и в трещине сверкнуло солнце. Ковалев из последних сил рванулся к нему — и наткнулся на себя самого. Он закричал от ужаса, ударил — и огромное зеркало рассыпалось на тысячу кусков. Там, за зеркалом, была открытая дверь. Но он не успел доползти до нее.
Он в испуге привскочил с дивана. В окно падал тусклый свет уличных фонарей, на часах было почти одиннадцать.
Он встал, включил свет, заглянул в спальню — матери не было. На столе лежала записка: мать сообщала, что ушла ночевать к подруге, их бывшей соседке, которая теперь умирала от рака. Мать время от времени ночевала у нее, кормила, занималась хозяйством.
Ковалев заварил крепкого чаю. Со стаканом в руке подошел к окну и замер от внезапно охватившего его чувства безысходности. Стакан задрожал в руке. Он отставил его и подумал: «Я больше так не могу. Наверное, я сумасшедший».
В спальне он достал из комода шкатулку, отсчитал пятнадцать рублей. Потом подумал и взял еще червонец — на всякий случай. Оделся и выскочил из квартиры.
Такси он поймал сразу и через полчаса уже стучал в квартиру Алексеевой. Никто не отзывался на стук, но он почему-то упорно отказывался этому поверить и стучал, пока на площадку не выглянул заспанный сосед.
— Ты чего хулиганишь, а?
— Ничего, — Ковалев пнул дверь ногой.
— Видишь — нет никого?
— Вижу, вижу…
— Ну и не хулигань, понимаешь!