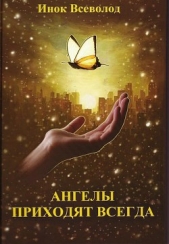Ангелы приходят и уходят

Ангелы приходят и уходят читать книгу онлайн
Повесть о любви. Посвящается всем, кому выпало любить безответно. Всем, продолжающим любить…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда приехали в Белореченск, было уже совсем темно. Ковалев увидел маленькую площадь, слабо освещенную двумя фонарями с железными рефлекторами. Черные домишки, заборы — и тишина, нарушаемая только простуженным лаем собак.
Автобус развернулся и уехал, Ковалев огляделся, и пошел по дороге в ту сторону, где, как он предполагал, должна стоять невидимая отсюда пятиэтажка.
Дома и заборы кончились и Ковалев вступил в темный, глухо шумевший поверху бор. Дорогу было еле видно, он то и дело спотыкался, но вот впереди показался огонек: кто-то шел с фонариком ему навстречу. Луч света скользнул по лицу Ковалева и упал в снег.
— Скажите, я правильно иду — к пятиэтажке? — спросил Ковалев.
— А? — отозвался мужской голос. — Ну да. К ней.
Помолчал и спросил:
— А кого там надо-то?
— Не знаю. В гости позвали…
— А-а… — Мужчина помахал фонарем, пожал плечами и пошел своей дорогой.
Через сотню-другую метров лес стал редеть и вот уже всеми окнами засияла впереди пятиэтажка. Над подъездами горели фонари, на скамейках заседали бабушки, мальчишки играли в снегу. Ковалев подошел к бабушкам, поздоровался, спросил, в каком подъезде сорок шестая квартира.
Подъезд был невероятно грязен, здесь пахло кошками и мочой, и стены, и двери были исписаны людьми, которые, кажется, знали всего три буквы русского алфавита.
Сорок шестая была на пятом этаже. Ковалев постоял, стараясь поскорее отдышаться, постучал.
Дверь открылась. В дверях стояла Ирка, но Ковалев не сразу узнал ее: это была незнакомая прекрасная женщина.
— Привет, — сказала она, — проходи.
Он вошел в полутемную прихожую, стал снимать пальто, а она не уходила, стояла и улыбалась незнакомой улыбкой.
В комнате светила настольная лампа с зеленым абажуром, негромко играла музыка.
— Ты одна? — спросил Ковалев. — Ждешь кого-то?
— Тебя я ждала, глупый, — ответила она. — Подруга на дежурстве в доме-интернате. Интернат здесь для престарелых и инвалидов, рядом, в окно видать.
Ковалев сел за стол, слушал ее вполуха и ничего не соображал. Она говорила про дом-интернат, про инвалидов, про подругу, про ее мужа. Ковалев кивал. «Музыка красивая… — думал он. — Донна Саммер, Father Dear».
А потом свет погас и стало тихо.
— Электричество отключили, — сказала Ирка. — Здесь такое часто бывает.
В темноте Ковалев взял со стола рюмку, они чокнулись и выпили. У него закружилась голова, но не от выпитого: вдруг оказалось, что она совсем рядом, и он обнимает и целует ее, целует губы, щеки, глаза.
Вспыхнул свет — и сейчас же погас: это она дотянулась до выключателя.
А музыка осталась. Они танцевали в темноте, а потом он подхватил ее на руки и стал кружить по комнате, и кружил, пока не опрокинул стул, и она сказала:
— Уронишь ведь, Алеша Попович!
А потом сказала:
— Я, кажется, забыла дверь запереть.
А потом, в спальне — слабо светящийся квадрат окна, белая простыня, белое тело.
Ирка прошептала:
— Вот глупый-то…
А он ответил:
— Сам знаю.
Но ничего он не знал, потому что такого еще не было, а то, что было — было совсем не так. Он вскочил с кровати, встал на руки и хотел пробежать по полу, но упал и хохотал лежа.
А потом снова было тихо. Тише, чем сначала. Тихо на всей земле, даже бор не шумел, даже мальчишки за окном кричать перестали, даже музыка смолкла.
Он целовал ее, гладил, а потом уткнулся ей в плечо и загрустил. «Будто сон, — думал он. — Кончится — и проснемся чужими». Потом он подумал про нее: несчастная, зачем она его заманивала, он же и так на все был готов, зачем она играла? Несчастная и глупая… А может быть, она и сейчас обманывает его? И ему стало еще печальнее и вспомнился обрывок какого-то стихотворения, нацарапанного на студенческой парте среди анекдотов, признаний в любви, и рисунков обнаженных женских фигур:
…Так плохо нам, господи, плохо.
Веди же, веди нас туда,
Где нет ни печали, ни вздоха.
Где мы не умрем никогда.
Эти строки никак не выходили из головы, он проговорил их вслух, а потом повторял и повторял про себя, и думал: радость приходит и уходит, а печаль остается с нами. Время уже истекает, еще чуть-чуть — и закончится срок, отпущенный радости, а дальше — только печаль. Потому-то радость так долго и помнится.
Он поцеловал ее так, что сделал больно, а она сказала:
— Вот этого я не люблю.
— Ты не этого — ты меня не любишь, — вздохнул он.
Поднялся, взял сигарету, приоткрыл форточку. С улицы послышался дребезжащий, какой-то вихляющийся голос:
— Все могут кар-рали! Все могут кар-рали! И судьбы всей земли вершат они порой!.. Но что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король!..
Ковалев посмотрел вниз. По асфальтовой дорожке вдоль полутемного корпуса дома-интерната на коляске катился инвалид. Колеса жидко поскрипывали, инвалид подгонял их руками. Разогнался, скрылся из глаз. Стихло пение. Через минуту — снова: скрип-скрип, скрип-скрип. Инвалид взбирался на некрутую горку, взбирался молча — запыхался. Развернул коляску наверху, — и вниз:
— Все могут короли! Все могут короли!..
И снова скрылся. И снова появился. Въехал на горку, развернулся, покатился… На этот раз песня оборвалась раньше: коляска наскочила на бордюр и завалилась набок, в снег. Инвалид выполз из коляски, шевеля обрубками ног. Отыскал шапку, отряхнул. Вытащил на асфальт коляску, и долго пытался в нее сесть. Она не слушала его, отъезжала, — видно, что-то в ней сломалось, — и он снова и снова падал. Так продолжалось долго, мучительно долго.
— Что там? — спросила Ирина.
Ковалев хотел ответить, но тут раздался прежний скрип и вихляющийся, почти нечеловеческий голос опять затянул:
— Все могут короли! Все могут короли!..
Ковалев не стал больше смотреть, лег, укрылся одеялом. Спросил:
— Они, инвалиды эти, нормальные?
— Кто их знает. Всякие бывают. Подруга говорит, все они тут с приветом. И те, кто с ними работает долго — тоже слегка съезжают… Вот недавно в этом доме муж жену кухонным ножом зарезал. Она медсестрой в интернате работала…
— А кладбище здесь тоже есть?
— Есть. У них все свое — и хозяйство, и кладбище. Там, за дорогой, в лесочке…
— И не страшно им тут жить?
— Инвалидам?
— Нет, подруге твоей с мужем…
— Они по распределению здесь. Три года надо отработать. Уже скоро срок кончится — уедут. Хотя многие привыкают: тут зарплата приличная, природа, воздух чистый.
Они надолго замолчали, потом Ковалев тихо сказал:
— Ты прости меня, ладно?
— За что?
— За то, что я не такой, как ты хотела…
Она поцеловала его, опять назвала глупым, а потом вдруг спохватилась:
— Слушай, а чего мы лежим? Сколько времени?
Он перегнулся с кровати вниз, порылся в ворохе одежды на полу.
— Без скольки-то одиннадцать…
— Ох, пора!
— Куда? — удивился он.
— Тебе — на автобус, а мне — постель убрать.
Он полежал еще, соображая.
— Ты серьезно?
— Серьезнее некуда, — она вскочила, одевалась, объясняла на ходу, — Последний автобус в город в одиннадцать идет. Тебе надо на него успеть. Скоро подруга придет — она во время дежурства дома ночует, если надо — ее вызовут, тут же рядом… Собирайся скорее!
Загипнотизированный ее спешкой, он тоже вскочил, начал лихорадочно напяливать на себя рубашку, штаны. Пока она убирала постель, он успел даже сполоснуть лицо в ванной. Она проводила его до дверей, поцеловала и наказала не искать: сама найдет, когда будет нужно.
Ковалев выскочил на улицу и быстро, как будто внутри у него была взведена пружина, зашагал по белой колее между сосен.
На площадь у остановки он выскочил, когда автобус уже отъезжал. Ковалев бросился за ним, отчаянно замахал руками. Водитель притормозил, Ковалев прыгнул в приоткрывшиеся двери, и только тут почувствовал: пружина ослабла, завод кончился.
В автобусе было темно, водитель гнал вовсю. Одинокие березки, выхваченные светом фар, будто выскакивали к дороге и тут же прыгали назад во тьму. Дорога, черная кромка леса на фоне звездного неба, изредка — огоньки встречных машин… Ковалев, прислонившись к окну, слушал музыку, увезенную оттуда, из одинокой пятиэтажки в лесу, и ему казалось — он сам превращается в звуки и парит над непроглядным мраком ночи, над бесконечной белой равниной.