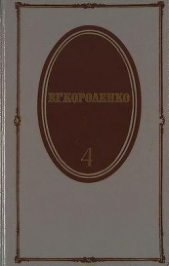По следам судьбы моего поколения
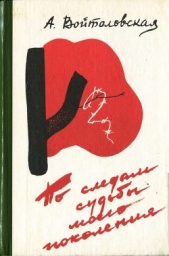
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Через овражек, полный воды, были перекинуты мостки, по которым мы двигались цепочкой. В это время с противоположной стороны подошел к мостику сын начальника лагпункта в резиновых высоких сапожках, в подпоясанной ремнем по-военному серой шинели, с хлыстиком в руках, в широком накомарнике, удобно прилаженном к каркасу фуражки. Не подождав ни секунды, он громко и властно объявил: «Дайте немедленно дорогу сыну начальника!» Барчонок воспринял от родителей хорошую школу политграмоты на всю жизнь вперед. Несколько раз он с отцом для практики присутствовал на обысках в бараках.
Новый начальник Кочмеса Сенченко был типичный чиновник — НКВДнст, сфабрикованный тем временем, и следовал духу времени без отклонений. Стиль его деятельности — службизм без колебаний, характерных для его предшественника Подлесного. Сенченко исповедовал инструкцию, как символ веры. Он не давал себе труда задуматься над ней. Он был достаточно вымуштрован для прямого исполнения и достаточно застращен, чтобы уловить и не писанное сверху.
В обращении с «зека» он держался надменно, грубо, презрительно согласно указке передовиц в отношении к «врагам народа». Считал себя при этом человеком, идущим в гору и «правильным партийцем». При обысках, в которых Сенченко не раз лично участвовал, он швырял вещи, выплескивал чернила, керосин, одеколон, рвал книги и письма, ожесточенно сквернословил не хуже и не лучше любого вохровца. А ведь известно, что, если хозяин сорвет одно яблоко, то слуги оборвут весь сад. Сенченко задавал тон поведения с «зека».
Для огромного большинства начальников лагпунктов, в том числе и для Сенченко, было естественным считать, что их функциональная задача — беспощадная борьба с «врагами народа», как с определенной категорией, не входящих в рубрику прочих людей. Логически и психологически они были заранее подготовлены к тому, что это правильно и необходимо. Продолжала действовать в отношении нас та же гуртовая оценка, тот же гуртовой счет, как и на этапах.
Семейка Сенченко во главе с начальником господствовала над Кочмесом, где собрано было немало людей высокой культуры и годами воспитанной гражданственности. Находясь в распоряжении Сенченко, мы были полностью ему подвластны. Не только уголовники, но, к сожалению, и некоторые политические рады были попасть в милость к начальнику и даже к нему в услужение. Начальник же не брезговал даровой рабсилой, ибо паек так и так полагался «зека», а крохи с барского стола были для него не обременительны.
У начальника было нечто вроде негласной дворовой обслуги, дворни. Жена его приближала к себе тех, кто склонен был «информировать» ее о том, о сем, попросту наушничать. Словом, небольшое владение лагерного опричника и при нем небольшой «двор», где вольные являлись приближенными, а зека — прислугой.
Некоторое время после возвращения из поездки заведующей домом малютки была простосердечная полуграмотная жена начальника III-го отдела нашего лагпункта. Она была искренне рада работе в яслях тем, что ее избавили от скуки и безделья, и старалась сделать все, чтобы помочь, чем могла. «Аристократка» Сенченко ее знать не хотела, с «зека» общаться запрещено, а тут она и при деле и с людьми. У нее акающий акцент, бесхитростная речь.
— Май-та уехал на Воркуту, ну и слава богу. («Май» означало «мой», то есть муж.) Не знаю, кто у нас причиной, а нет детей, хоть плачь! Эта я к таму гаварю, как я начальницей стала. Я ему гаварю: пайду, возьму в яслях ребенка и буду нянчить. Май-та и гаварит: «Сукинова сына в дом возьмешь! Зачем? Я тебе их всех под начало отдам». Так и получилось. Теперь не скучна…
И она заливалась безобидным веселым смехом.
Ясли были хороши тем, что они не только поглощали уйму времени, но и мысли: живые существа, маленькие человечки уводили из лагеря. От яслей шло тепло детской. Очень мало бывала в бараке, обеденный перерыв почти целиком уходил на стояние в очереди за своей порцией у кухонного окна, купала детей до 11–12 часов вечера и задерживалась то в яслях, то в аптеке до глубокой ночи. Когда же детки болели, то и ночевала в яслях, являясь лишь на поверку.
За время поездки в бараке произошли людские перемены. Дора и Муся уехали, со строителями распрощалась. Моей соседкой на верхних нарах оказалась вновь прибывшая из московской тюрьмы полька Зося Сташкевич, а за барьерчиком вагонки — Фаня Рабинович, харьковчанка, портниха по профессии. Она и в Кочмесе работала в портняжной мастерской. Два ее брата отбывали наказание в Желдорлаге и находились в экспедициях по прокладке трассы между Кож-вой и нынешней железнодорожной станцией Печора, так что им удавалось бывать в Кочмесе и видеться с Фаней.
Всякий раз, как я укладывалась спать на нижней койке, стараясь как можно поплотней укутаться и оградить себя от доносившихся отовсюду звуков, в уши все-таки проникали то подавленные вздохи, то стоны, то крики со сна, будто человека душат кошмары. Зося ворочалась с боку на бок, вагонка шевелилась и поскрипывала, я просыпалась.
Днем с моей верхней соседкой Сташкевич мы никогда не сталкивались, ограничиваясь утренним приветствием. Она ходила во всем черном, считалась слабосилкой, не носила ватных брюк, а только бушлат, работала в овощехранилище на переборке картофеля и часто получала освобождение по болезни. Ей можно было дать лет сорок, но она была почти белая. Черты лица правильные, заостренный нос, прямые бледные губы, нос без изгиба переходил в покатый лоб. Глаза неуловимые, запрятанные. Так мы прожили с ней недели три-четыре на одной вагонке, одна под другой, совершенно чужие и далекие. Она не стремилась сойтись ни с кем, а вместе с тем такая отчужденность ее, видимо, тяготила. В этапе она шла с группой мужчин, которых высадили в Адзьве, так что и спутниц у нее не было.
Однажды среди ночи она закричала не своим голосом, а потом свесила голову — волосы были заплетены в две небольшие косы на прямой пробор — и, заметив, что я проснулась, попросила простить ее за то, что будит меня по ночам. Говорила она с иностранным акцентом, но языком владела довольно свободно. Захотелось разузнать о ней. Не спрашивая разрешения, я влезла к ней наверх.
— Что вас мучает, о чем вы плачете по ночам? — Говорить в бараке ночью, значит вызывать справедливые протесты, шиканье, окрики, поэтому говорили очень тихо, одними губами. Она безмолвно расстегнула кофту, спустила шелковую черную рубашку, и я увидела, что правая грудь ее покрыта темными рубцами, а левая как бы обрезана от соска к ребрам и уродливо сморщена.
— Вот почему не сплю, вот почему кричу по ночам. Сама попросила отправить меня из Одесской тюрьмы, где велось следствие и где меня обвинили в шпионстве, в Москву. Думала, там все выяснят — я польская коммунистка. Мою просьбу удовлетворили, меня привезли в Москву, в Лефортовскую тюрьму. Там и началось, — она показала на грудь. — Всех бьют, дорогая, не меня одну, и как бьют!.. Не только иностранцев, которых подозревают в шпионаже, но и русских, русских коммунистов… Да, поверьте, я за 8 месяцев сидела со многими, не избитых не было!
Впервые видела тело истерзанной побоями в тюрьме женщины. До сих пор могла только предполагать по крикам, которые слышала в одиночке, что избиения происходят, по рассказам позднее взятых товарищей, по противоестественным признаниям обвиняемых на процессах, о которых доходили слухи. Сомневалась долго в возможности пыток, не допускала мысли, что это так. После расстрелов на Воркуте всему поверила, подтверждением служила изуродованная грудь с незажившими рубцами и все поведение Зоей. Не расспрашивала ее ни о чем, так и не узнала ее дотюремной биографии и как попала в Россию. Старалась отвлечь ее, раза два водила по вечерам в ясли на купанье детей, где она оживлялась, но спать спокойней она не стала: дело было в психической травме. Вскоре ее вывезли в сангородок близ Воркуты. Мне говорил врач Одарич, что как только она прибыла, он послал рапорт о переводе ее в стационарную больницу для длительного лечения. Он тоже о Сташкевич ничего не знал. Больше я Зоею не видела, слышала, что она долго лежала в больнице, а затем осталась там работать. Быть может, она теперь в Польше.