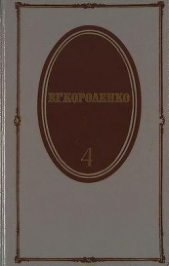По следам судьбы моего поколения
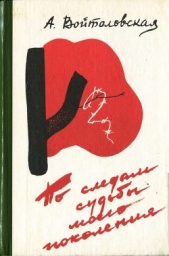
По следам судьбы моего поколения читать книгу онлайн
А. Л. Войтоловская — одна из жителей печально известного архипелага ГУЛАГ, который густо раскинул свои колючие сети на территории нашей республики. Нелегкие пути-дороги привели ее, аспирантку ЛИФЛИ, в середине 1930-х годов, на жуткие командировки Сивая Маска и Кочмес. Не одну ее — тысячи, сотни тысяч со всех концов страны.
Через много лет после освобождения Войтоловская вновь мысленно проходит по следам судьбы своего поколения, начав во времена хрущевской оттепели писать воспоминания. Литературные критики ставят ее публицистику в один ряд с книгами Шаламова и Гинзбург, но и выделяют широкий научный взгляд на сталинский «эксперимент» борьбы с собственным народом.
Книга рассчитана на массового читателя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы шли по окраинам, а затем по выщербленным тротуарам города. Он в военной форме НКВД, я в потертой черной бязевой юбке, в ватной лагерной телогрейке и в непомерно больших ботинках лагерного образца. Каждую минуту нас мог встретить кто-либо из работников управления или охраны, которыми Архангельск был тогда наводнен, но его это не смущало. Во всяком случае в нем не было натянутости. Меня же грызли сомнения — ловушка, бред, почему упомянул Заславского? Мы шли и шли. Голос его звучал спокойно, доверительно, а я несколько раз останавливалась и смотрела на него во все глаза. В конце концов мое недоверие начало ему досаждать, а может быть и обижать его.
— Слушайте, — сказал он с накипавшим раздражением, — не ставьте меня в глупое положение — рискую я, а не вы, и вы же мне не доверяете. В моем и вашем распоряжении считанные часы. Я могу сейчас же доставить вас на пересылку, но я не сделаю такой глупости. Вами руководит пропитавший вас страх. Надо же уметь быть смелой сразу! С первого взгляда. Не глядите на меня испытующе, на это тоже уходит время.
И доверие родилось. Посмотрела на себя со стороны и почувствовала неловкость.
— Простите, — сказала я.
— Знаете что, откинем все условности, я видел утреннюю сцену. Не весело! Хотите, пойдем в кино, в кафе, в столовую! Любое ваше желанию выполню. Я тоже в Архангельске не по доброй воле. Раз уж решился потратить день, потратим его с пользой для вас.
— Никуда мне идти не хочется. Не так-то просто сбросить груз многих лет за несколько часов, так бывает лишь в сказках. Сегодня особенно тяжелый день, вы свидетель тому. На фоне яркого дня и спокойного течения жизни я — черное пятно. Не могу переключиться. Я здесь чужая. Есть у меня просьба: помогите мне поговорить по телефону с мамой в Ленинграде.
Завгаллер был озадачен. Он поколебался.
— Трудно! Привести вас в управление никак нельзя. Как быть? Пойти на междугородную станцию тоже нельзя, там часы переговоров с Ленинградом ограничены, до вечера время ушло, а на поверке вы должны быть на месте. — Он задумался. — Попытаемся связаться по прямому проводу через инженерное управление (он был инженером).
Мы пошли быстро и через полчаса были уже у провода. Но провод не действовал, и связи с Ленинградом не было. А я так ясно вообразила, что услышу голос мамы! Битых два часа ждали у провода, а время близилось к поверке. Ничего не получалось. Проклятый провод повис где-то в пространстве и срывает задуманное, которого я уже ждала неистово и жадно. Судьба послала мне неправдоподобное чудо, а воплощение ускользает. Телефонистка не знала, кто я, но мое нетерпение передалось ей, она вызывала то Вологду, то Череповец, перекидывая шнуры, чтобы соединиться, но напрасно. Завгаллер поминутно смотрел на часы и нервничал, а я эгоистически думала только об одном — назвать номер В2-86-86.
— Пора! — сказал Завгаллер. Мы вышли. — Все рухнуло, я ничего не смог сделать, экая досада!
Искренность его тона позволила мне сказать:
— Не все рухнуло. У меня, конечно, ни копейки денег нет, но я вас очень прошу, пошлите от меня две телеграммы: одну маме, другую мужу. Первое дело менее сложное и целиком зависит от вашей доброты, второе — гораздо сложнее. Рассказала о моем желании встретиться с мужем на обратном пути.
— Если вы согласитесь, вам нужно будет поинтересоваться, когда нас отправят, узнать, каким мы едем пароходом по морю, на какой по времени можем пересесть в Нарьян-Маре и тогда послать в Харьягу соответствующую телеграмму мужу.
Завгаллер рассмеялся.
— Ну, знаете, поддайся женшине — всего проглотит. Вы меня втягиваете в конспиративную нелегальщину! Впрочем, весь день противозаконный. Коль покарают, так уж за дело. Пишите текст двух телеграмм.
Составили текст, длинный — маме, короткий — Коле.
Через час Завгаллер сдал меня конвою.
Его уже нет в живых, но есть дети и, наверно, внуки. Не только они, но и может быть случайно встретившие его на своем пути люди помнят, какой благородной добротой обладал их отец и дед. Как-то прочла в газете в списках лауреатов Ленинской премии имя Завгаллера, профессора Ленинградского университета. Фамилия редкая, наверно, сын. Искренне порадовалась.
На пересылке все беспокоились за меня — мало ли что можно предположить в отношении «зека». Молчала, боясь подвести Завгаллера. Малейшая оплошность может погубить человека.
Как только вырвешься из тисков и решеток, жизнь торопится подбросить людей, встречи, неожиданное. Такой явилась для меня поездка в Архангельск.
Я уже описывала архангельскую пересылку, но через три года произошли некоторые перемены: мужскую и женскую пересылку разделили пополам сплошным дощатым забором вышиной в 3–4 метра. Конечно, были проделаны дырочки, ободраны края досок, без чего не бывает ни одного тюремного забора на пересылках. Дворы — большие прямоугольники, утрамбованные ногами.
На утренней прогулке услышала стук комков земли о забор и затем свое имя. Почудилось? Но вот уже явственно различаю интонации голоса Николая Дрелинга, хотя он не говорит, а шепчет. Торопливо приближаюсь к забору, впиваюсь глазами в щелку и вижу отрезки его долговязой фигуры, не попадающей целиком в поле моего зрения при приближении. Стоять же надо рядом с забором, чтобы услышать. Он размахивает своими нелепо длинными руками и что-то спрашивает. Но прогулочном дворе конвоя нет, только на вышках вохровцы с автоматами. Гуляющих не много, и ленивое внимание вохровцев невольно должно сосредоточиться на нас, они видят, но им лень донимать нас.
— Тебя тоже на переследствие? — спрашивает Дрелинг.
Коротко объясняю, почему я здесь, а в голове проносятся вереницы ушедших безвозвратно на переследствие. (Мы трепещем перед вызовами в центры, с ужасом предвижу, что его ожидает.) Но Коля воспринимает все по-иному. Лицо веселое, глаза радостные, он разгорячен, вытирает замусоленным платком потрескавшиеся, запекшиеся губы, возбужденно говорит:
— Видишь, видишь, вот и еду на освобождение, а ты уговаривала меня не писать. Эх, ты, политик! Кто из нас прав? Теперь я всех подлецов выведу па чистую воду. Они у меня запрыгают!
Понимала, что он ослеплен, и жалко было разбивать иллюзии, вселять страх, самое худшее, низкое и подлое чувство на свете. Не впервые сталкивалась с взглядами людей, которые считали, что кое-кто сидит за дело, а вся масса заключенных — сумма случайных или злостных несправедливостей, но что стоит найти путь к «высшему суду» и правда восторжествует. Коля Дрелинг был умен, но сохранил упрямую наивность любого верующего. И вот его вызывали на тот самый «божий суд». Он был запущен, как пуля по заранее рассчитанной траектории, и ни предотвратить, ни изменить уже ничего нельзя. Но все-таки, может быть, понимание политической обстановки, ощущение момента могло бы спасти от самого страшного. Необходимо отрезвление для правильной тактики и поведения на следствии. Нельзя явиться туда совершенно безоружным и с пеной у рта кидать в лицо следователям весь накопившийся запал протеста. Это означало рваться навстречу гибели. Я пыталась что-то противопоставить, убеждала, что такое единоборство безумие, но почувствовала, как неприятны и неприемлемы для Коли мои доводы. Слова мои стекали, как капли дождя по стеклу, не проникая внутрь, оставляя его сухим и непромокаемым.
— Не отравляй встречу, — говорил он, отбрасывая мои аргументы, как мусор, — а я скоро увижу Эллочку, Анну Ильиничну, Витюшу, твоих ребят. — Он рассмеялся. — Помнишь, как Лёнечка впервые назвал пароход? Помнишь? Да чего ты хмуришься? Еще разнюнишься… Ты тоже скоро будешь дома, с нами, увидишь, и сама посмеешься над своим неверием…
Разговор наш прерывался множество раз: окликали, направляли винтовки для острастки. Мы то подходили к забору, то снова шагали по двору. Перед внутренним моим взором мелькал Коля-гимназист в форме с пряжкой VII казенной гимназии и с кокардой на фуражке, с детства в очках, с вытянутой тонкой шеей, застенчивый и насмешливый, то в Киеве и нам уже 16 лет, то в 1922 году в Москве толчемся в Охотном ряду, идем по Арбату, он уже «ответственный товарищ», ездит в командировки. Он длинный-длинный и носит кличку «минога». Коля — муж Эллочки и становится неотъемлемой частью нашей семьи… Когда мы жили в «Асто-рии» и на целые дни уходили на работу, оставляя маленького сынишку с чужим человеком, Дрелинг работал недалеко от нашего дома. Он забегал к нам и оставлял записочки, всегда шутливые: «11.00. Лёня спит. Сухой. Все в порядке. Ребенок в родителей» или «17.35. Увез Лёню с коляской из Исаакиевекого садика беспрепятственно. Ждал терпеливо около часа. Наконец «прелестница» явилась… с другим Лёней (без коляски, но с усиками). Примите срочные меры!» Некоторое время он болел туберкулезом, но не придавал значения болезни, не унывал, не хныкал и выздоровел.