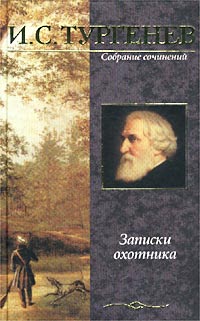Чары. Избранная проза

Чары. Избранная проза читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что ж ты плачешь?! Это же твоя бабушка! Ты ее больше никогда не увидишь! — сказала мать, не решаясь снова протянуть ко мне руку, пока произнесенные с укором слова не вернут ей мое утраченное доверие. — Никогда-никогда! Ты понял?
— Это не бабушка! Это не бабушка! — упрямо повторял я, потому что мне не хотелось, а сами они не целовали, а почти касались губами и еще потому, что бабушку я никогда такой не видел.
Такой иссохшей и желтой — словно ее натерли воском. Такой тяжелой, грузной и словно одеревеневшей — наподобие дубового гроба. Такой спокойной, величественной и даже надменной — будто она единственная среди нас была взрослой, а все остальные — детьми, на которых она взирала со снисхождением. Детьми беспечными, нерадивыми и непонятливыми, которым ничего не объяснишь и не втолкуешь. Зато сама она — понимала. И в этом, собственно, заключалось отличие ее, умершей, от нас, живых. Ее, неподвижно лежавшей в гробу, от нас, без конца сновавших вокруг, поправлявших цветы и ленты, что-то приносивших, ставивших, сдвигавших и вновь уносивших. Да, понимала нечто таинственное, страшное, но при этом таившее в себе нездешнее, невыразимое, последнее блаженство, доступное ей и недоступное нам. И это понимание поглощало ее целиком, отнимая способность двигаться, слышать, смотреть и говорить. Только — понимать…
По крутящимся валикам
Дубовый, обитый черной материей гроб с телом бабушки, утопавшей в бумажных цветах, подняли по ступеням подвала, вынесли во двор, закрыли крышкой и погрузили в траурный катафалк. Вернее, автобус с черной каймой, заказанный накануне в похоронном бюро. Погрузили через специальный люк, дверцу в задней стенке, и прокатили по крутящимся валикам — так, чтобы гроб стоял на полу, а все провожающие сидели вокруг него. Сидели, молча, со скорбными, значительными и отсутствующими лицами — как провожающие в последний путь. Именно такие лица были у моих родителей, которые поехали в церковь (бабушку отпевали в церкви Сретенского монастыря) и на кладбище вместе со всеми, а меня оставили с родственниками, накрывавшими столы для поминок. Оставили, потому что мне не хватило места, хотя все готовы были потесниться и высвободить мне местечко, куда я мог бы кое-как втиснуться. Но их предупредительность что-то нарушала в скорбной торжественности проводов и превращала их в обычную поездку. Поэтому мать сказала: «Ничего, ради бога, не беспокойтесь». Те сразу присмирели, и меня оставили. Оставили, и я словно на время потерял своих родителей. Я, один, вдруг потерял их, словно объединившихся — и слившихся — со всеми.
Не то чтобы они обо мне забыли, но они именно принадлежали всем, в то время как я оставался один в подвале, и никто меня не замечал. Родственники застилали скатертью сдвинутые столы, расставляли вокруг стулья и скамейки, принесенные от соседей, и там, где не хватало скамеек, на два крайних стула укладывали доску. Укладывали и пробовали сесть — удобно ли, не упадет ли. И убедившись, что не упадет, доставали с полок буфета тарелки с одинаковой голубой каймой, а из выдвижных ящиков — простые алюминиевые ложки, вилки со сломанными зубьями и щербатые ножи. Я же сидел, забившись в угол продавленного дивана с завалившейся спинкой, и — смотрел.
Но смотрел не на родственников, накрывавших на стол, а в узенькое и подслеповатое окно подвала, которое выходило на улицу и в котором мелькали ноги редких прохожих, проносимые мимо сумки, баулы и саквояжи, полозья санок (бабушка умерла в конце зимы), облепленные снегом колеса детских колясок. Мелькали, а я смотрел, смотрел и вдруг понял то же самое, что понимала лежавшая в гробу бабушка. Взгляд из подвального окна — снизу вверх — вселил в меня чувство, которое я не могу определить иначе как чувство смерти. До этого я лишь понаслышке знал, что люди умирают, но это происходило вдали от меня, словно за перегородкой, за плотно прикрытой дверью, и не касалось моего сознания. И вот я впервые осознал и почувствовал. Бабушку давно унесли, и на полу лишь краснели лепестки сухих искусственных цветов, валялись обломанные еловые ветки, а я почувствовал, почувствовал, и даже не с этой, а откуда-то с той стороны.
Моя игра в могилку
Это было не чувство испуга, ужаса и отчаяния, а чувство некоей пронзительной догадки: я смотрел в подвальное окно так же, как смотрел бы из-под земли или с неба на покинутый мною мир. Смотрел бы, уже зная, что со мною совершилось то, быть может, самое потрясающее, величественное и непостижимое событие, которое люди лишь по неведению называют смертью. И мне конечно же хотелось постигнуть загадочную экзистенцию этого события. Хотелось догадаться о нем до конца, примерить к себе так же как я тайком примерял висевшие в гардеробе пиджаки, фуфайки, кепки и шляпы отца и спрятанные в коробку лакированные туфли матери. И я постигал, догадывался и старательно примерял — вот почему взрослые вскоре заметили мою склонность к странной игре.
— Что это еще за выдумки? — спрашивали они, когда я ложился на диван, обкладывался подушками, накрывался клетчатым душным покрывалом бабушки и, вытянув руки вдоль туловища, наподобие мертвеца закрывал, смыкал глаза. — Во что это ты играешь?
— В могилку, — отвечал я, не подозревая, что именно простота и убедительность моего ответа станет причиной того, что он их не только не удовлетворит, но и озадачит, вызовет недоумение, рассердит и возмутит.
— В могилку?! Какая неинтересная игра! Кто тебя научил в нее играть?! — Прежде чем объявить виноватым меня, они искали тех, на кого можно было бы возложить и мою, и часть своей собственной вины.
— Никто не научил. Я сам. — Гордясь своей самостоятельностью, я отчасти старался обнаружить ее перед взрослыми, но отчасти и прятал ее, потому что в их вопросах мне слышались скрытый подвох и угроза.
— Ах, ты сам! Ну, что же, ты у нас большой выдумщик и фантазер. Только мы тебя очень просим больше не играть в эту игру — Еще не предвидя моего упрямого сопротивления, они сопровождали свое требование мягкой улыбкой.
— Почему не играть? — Я не столько стремился уяснить для себя смысл их требования, сколько заранее отказывался ему подчиниться.
— Потому что эта игра очень плохая и совсем неинтересная. — Они же не столько разъясняли, сколько требовали подчинения.
— Нет, интересная! — Зная наперед, что они заставят меня согласиться с ними, я пользовался правом капризного ребенка на временную отсрочку.
— Зачем ты споришь? Мы же хотим тебе добра! Дело в том, что мальчики, которые играют в эту игру, сами могут умереть! Вот так лягут, закроют глаза и умрут. И никто уже не оживит их, никакой доктор.
Они участливо склонялись надо мною и вздыхали, явно показывая, что в том случае, если их предостережение на меня не подействует, они уже ничем не сумеют мне помочь.
— Умереть?! И я тоже?!
Чувство той самой догадки, которое владело мною раньше, постепенно сменялось чувством испуга, ужаса и отчаяния.
— Да, мой мальчик. Поэтому никогда-никогда не играй в эту игру. Обещаешь?
Вместо ответа я вскакивал, откидывал злосчастное покрывало, бросался в объятия матери и замирал у нее на груди. Замирал, испытывая обморочный и блаженный восторг от мысли, что по счастливой случайности я не умер. Да, по счастливой случайности я есть, я существую — дышу, смотрю, двигаю руками и ногами. И у меня есть мать и отец, столь горячо и нежно любимые мною, есть наш дом на Малой Молчановке. Есть кухня, коридор, телефон в коридоре на исписанной цифрами стене, номер которого я помню наизусть (Г-9–00-0–6), и есть сваленные в фанерный ящик игрушки, мой восторг, мое упоение, мое богатство. И в эти игрушки я буду теперь играть, отказавшись от плохой, неинтересной и страшной игры.
Глава четвертая
ИМЕНУЕМОЕ СКАНДАЛОМ
Пускай поживет с нами
После смерти бабушки, похорон и поминок у нас в доме стали чаще вспоминать о дедушке, ведь он остался один (увлажнившиеся глаза), совсем один (сердобольный вздох), один-одинешенек (рука, подпирающая щеку). Поэтому всем было его очень жалко и все о нем спрашивали, опережая друг друга в выражении беспокойства, озабоченности и сочувствия: «Ну, как он там? Почему-то долго не звонит — уж не захворал ли, не занемог, не слег? Тяжко ему теперь, одному-то: все-таки столько лет вместе!» Слыша эти озабоченные вопросы, вздохи, сетования и видя на лицах выражения сочувствия и жалости, относившиеся к дедушке, я тоже жалел его, хотя и не до конца понимал, почему дедушку теперь следует жалеть, если сам он не умер, он есть, в то время как бабушка умерла и ее уже нет. Нет нигде, где бы мы ее ни искали, куда бы ни заглядывали в надежде найти. Нет в подвальной комнатке с сонно тикающими ходиками и мраморными слониками на кружевной дорожке. Нет в заросшем лопухами дворе, где бабушка стирала и развешивала на веревках белье, рвала щавель для щей или меняла песок для кошки. Нет перед приставной лестницей в погреб, куда она, опасливо посматривая вниз, чтобы не оступиться, спускалась с тарелкой. Спускалась за хранившимися в заплесневелых бочках квашеной капустой, солеными огурцами, груздями, рыжиками и чернушками. Нет и никогда не будет, хотя совсем недавно она была — в комнатке, во дворе, перед погребом.