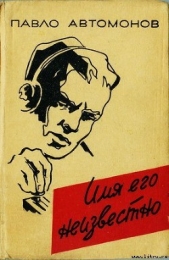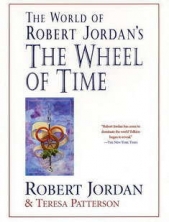Три грустных тигра

Три грустных тигра читать книгу онлайн
«Три грустных тигра» (1967) — один из лучших романов так называемого «латиноамериканского бума», по праву стоящий в ряду таких произведений, как «Игра в классики» Хулио Кортасара и «Сто лет одиночества» Гарсии Маркеса. Это единственный в своем роде эксперимент — опыт, какого ранее не знала испаноязычная литература. Сага о ночных похождениях трех друзей по ночной предреволюционной Гаване 1958 года озаглавлена фрагментом абсурдной скороговорки, а подлинный герой этого эпического странствия — гениальный поэт, желающий быть «самим языком».
В 1965 году Кабрера Инфанте, крупнейший в стране специалист по кино, руководитель самого громкого культурного журнала первого этапа Кубинской революции «Лунес де революсьон», уехал с Кубы навсегда и навсегда остался яростным противником социалистического режима. Сначала идиологические препятствия, а позже воздействие исторической инерции мешали «Трем грустным тиграм» появиться на русском языке ранее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А Вивиан?
Он достал черные очки и надел.
— Оставь в покое очки, солнца вроде нет. Даже в чистых, хорошо освещенных местах. Посмотри.
Весь стол был закидан пеплом, я подумал, он натряс сигарой. Но тут мне на рукав приземлилось черное пятно, которое я сначала принял за мошку в глазу, потом за бабочку или какое-то другое насекомое. Я тронул его пальцем, и оно рассыпалось. Оказалось, кусочек сажи, удивительно, раньше я не видел, чтобы сажа оседала ночью. Интересно откуда. Наверное, потому, что фабрики ночью стоят. Но некоторые-то работают. Сахарные заводы, например, и бумажная в Пуэнтес-Грандес. Новые хлопья сажи опускались на мой костюм, на рубашку, на стол, а потом скатывались на пол, словно черный снегопад.
— Мне показалось, бабочка.
— У меня в деревне сказали бы «мятлик».
— И у меня. А здесь говорят «бражники». В наших краях говорят, они несчастье приносят.
— В Самасе наоборот, что это к удаче.
— Зависит от того, что потом произойдет.
— Возможно.
Ему не по нраву пришелся скепсис в рядах верующих. Я подцепил пальцем одну черную снежинку, опустил на ладонь, и она чуть ли не засияла среди бледных линий Жизни, Смерти и Удачи, потом скатилась по Венериному бугру и слетела на пол.
— Это сажа.
— Кусочек почти чистого углерода. Застынет — алмаз будет.
Куэ цокнул языком, губами, ртом.
— Ага. А будь у моей бабушки колеса — была бы она «Форд Т». Черт, — сказал он, снимая и снова надевая очки, — это у них от дождя и ветра труба накрылась, вот сажа и летит обратно в кухню, и дым тоже.
Так оно и было; я подивился его смекалке. В жизни не подумал бы про кухню, про сломанную трубу, про проливной дождь, идущий в другом полушарии, в общем, не связал бы сажу с ее самым вероятным источником. Не просто практичный, а прагматичный Куэ подозвал официанта и показал на столик, который тут же вытерли, и на приоткрытую дверь в кухню, которую захлопнули.
— Хороший у них тут сервис, — сказал он.
Тут я вспомнил, что, кроме всего прочего, в нем живет попка-прагматик: он читает рекламу на радио.
— Мне руки надо помыть, — сказал он и пошел в туалет. Я тоже пошел в туалет и подумал, что это неспроста.
Я тоже пошел в туалет и подумал, что неспроста на нужной двери (бывают ненужные двери: этика архитектуры: на фасаде, у входа: lasciate omnia ambiguita voi ch’entrante: не бывает дверей двусмысленных) реалистично нарисовали шляпу. Цилиндр. Меня что, ожидали? Я поделился своими соображениями с Куэ поверх открывающейся в обе стороны дверцы, за которой он издавал такие звуки, будто писал. Что тут было изначально, ватер-клозет или салун? Ответ-вопрос на первый вопрос, он же мой ответ, прозвучал незамедлительно. Уайт Эрпсенио Куэ искусно выхватил из-за пояса сразу оба пистолета.
— А ты считаешь себя джентльменом?
Интересно, он левша? Не знаю, на всякий случай зовите меня Дикий Билл Хичкок.
— Нет, но зато я довольно цилиндрический, — я пустил в него шесть смеховых пуль: бестолковых, слепых, беспощадных, уж не знаю как попавших в цель: — И потом, неизвестно ведь, что хуже: быть джентль-меном или ша-маном?
Он вышел с поднятыми руками, я подумал, сдается. Но нет, он направился к раковине, вымыть руки, посмотреться в зеркало и поправить пробор. Он помешан на своем косом проборе. В жизни он не левша, только в Зазеркалье.
— А ты, стало быть, вообще ни во что не веришь?
— Верю. Много во что, почти во все. Но не в числа.
— Потому что считать не умеешь.
Это правда. Я с трудом складываю.
— Ты же сам сказал, что математика сродни лотерее.
— Математика-то да, но не все составляющие арифметики. В магию чисел верили еще до Пифагора с его теоремой, наверняка еще задолго до египтян.
— Ты веришь в драгоценные камни из колье Мадам Фатальность и из почек Доньи Фортуны. А я совсем в другие вещи.
Он смотрел в зеркало и проводил рукой по заостренным от полуночничанья скулам, по бледным щекам, по раздвоенному подбородку. Узнавал себя заново.
— Это мое лицо?
Что я говорил? Елен Троянский, Эней Виргилианский, Иней Сиберианский, Улей Медвянский — извращенец, словом:
— Лицо человека, который в возрасте двадцати двух лет затерялся в джунглях и сумел выбраться, но при этом не разбогател? Своей жизнью я опровергаю Дядюшку Бена, не того, который Анкл, не того, который на банке, а брата Вилли Ломана, Бена.
— Бен Тровато. С Энон Э. Веро. Они не родственники.
— Ты сам все знаешь. Знаешь, что я рисково жил.
— И живешь.
— Да, рисково живу.
Бедняга Ницше бедняков. Ниче на Кубе.
— А как иначе. Все мы рисково живем, Арсенио Люпен. Все под Богом ходим.
— Под смертью. Всем нам суждена смерть, ты хочешь сказать.
— Жизнь. Всем нам суждена жизнь, и надо ее прожить, как ты выражаешься, на полную-преполную.
Он показал на меня пальцем из зеркала, я не понял, правым или левым.
— Наоборотник. В кино, в литературе или в настоящей жизни? Или, как в старых моногрэмовских сериалах, придется дожидаться последней серии? Которая называется «Разоблачение, или Билли Кит наносит ответный удар»?
Он крутанул воображаемый велосипедный руль.
— В кино ты веришь.
— Не верю, я им живу. Я вырос в кино.
Теперь он писал на зеркале невидимые буквы.
— А в литературу?
— Я всегда печатаю на машинке.
Он изобразил — вышла пародия, скорее на машинистку, чем на писателя.
— Веруешь в письмо или в писания?
— В писателей.
— Веруешь, падла, в отче Гюго, иже еси на Олимпе и dans le tout [179] Парнасе?
— Never heard of them [180].
— Но в литературу веришь, так?
— С чего мне в нее не верить?
— Веришь или нет?
— Да, да. Верю, конечно. Всегда верил и буду верить.
— А какая разница между буквами и цифрами?
— Не забывай: два человека, которые сильнее всего повлияли и до сих пор влияют на историю, за всю жизнь и слова не написали, да и не прочли.
Я глянул на него в зеркале.
— Ради бога, Куэ, какое старье. Христократ. Твой дуэт в мифически-мистическом митозе делится на Христа и Сократа. Когда ты говоришь «литература», милый, я всегда подразумеваю литературу. То есть еще одну историю. Но, принимая твое предложение, спрошу: где были бы Один и второй без Платона и Павла?
Вместо ответа вошел пожилой мужчина.
— Que sais-je? C’est à toi de me dire, mon vieux [181].
Мужчина, мочась, посмотрел на нас. Так удивленно, будто мы говорили на древнегреческом или арамейском. Кто он, ранний пророк? Поздний платоник? Плотин по нужде?
— Moi? Je n’ai rien à te dire. C’etait moi qui a posé la question [182].
Мужчина закончил писать и обернулся к нам. Не застегнувшись. Подняв руки. Вдруг он заговорил, и то, что он сказал, поразило нас безмерно — если что-то в этом подлунном мире еще способно нас поразить.
— Il faut vous casser la langue. À vous deux! [183]
Сраная Немезида. To defatecate. Француз. Пьяный француз. Chovin rouge [184]. Куэ пришел в себя быстрее, чем я, и подступил к нему, Что ты, бля, сказал, кому отрезать, а потом в синхронном переводе à qui vieux con à qui dis-moi [185], взял за грудки и пихнул к писсуарам старика (самозванец как-то внезапно одряхлел), который в замешательстве бормотал mai monsieur mais voyons [186] и размахивал руками, как утопающий на мелководье. Тут только я сообразил вмешаться. Подхватил Куэ за подмышки. Он вроде еще не протрезвел, и бедняга француз, которому из языка Мольера сделали отварной язык, отцепился от нашего колышущегося треугольника и, споткнувшись пару раз, выбежал за дверь с цилиндром. По-моему, у него так и свисали два галстука. Я сказал об этом Арсенио Куэ, и мы думали, из толчка нас увезут прямиком в морг. Чуть не померли со смеху.