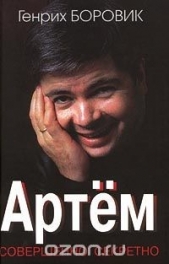а, так вот и текём тут себе, да (СИ)

а, так вот и текём тут себе, да (СИ) читать книгу онлайн
…исповедь, обличение, поэма о самой прекрасной эпохе, в которой он, герой романа, прожил с младенческих лет до становления мужиком в расцвете сил и, в письме к своей незнакомой дочери, повествует о ней правду, одну только правду и ничего кроме горькой, прямой и пронзительной правды…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Непонятно как-то; подружка одна, а их – двое.
Кто кого провожает?
Как свернули в переулок, Света «пока-пока» и – в калитку своей хаты.
Я провожаю Ольгу до следующей; она сказала, что там живёт; а Чепа с Квэком не отстают, ещё и в наш с ней разговор реплики вставляют.
И только когда мы с ней начали целоваться, им дошло, что тут не светит.
Перешли к противоположному забору, помочились на него под фонарём – богема, блин! – и ушли не солоно хлебавши. Как будто не могли до Будённого дотерпеть.
Откуда Квэк на репетиции взялся?
Так ведь солистка Жанна Парасюк его сестра родная.
Концерты художественной самодеятельности проходили не только в Клубе. Иногда их вывозили в разные сёла конотопского района, на заводском автобусе марки ПАЗ.
Именно для одного из таких концертов и репетировался ледяной потолок со скрипучей дверью.
Поскольку автобус не резиновый, везти с собой аппаратуру не получается, также некуда грузить маловозрастных снежинок из балетной студии.
Один «гопак», один молдаванский «жок» в дуэтном варианте под баян Аиды.
Потом она передаёт инструмент Чубе для использования в составе эстрадного ансамбля.
У меня в ансамбле роль ритм-гитариста, но на простой, акустической.
Владю Аксёнов не задействовал – вместо соло-гитары у него свой саксофон.
Ну, а Чепа как был ударником, так и остался; просто «кухня» у него в скелетном составе – из трёх предметов для битья палочками.
Мурашковский – общепризнанный гвоздь программы; то песни поёт, то «гуморески» рассказывает.
Автор «гуморесок» Павло Глазовой на тему «про меня и про моего кума».
То как мы штангу футбольных ворот головой сносим, то на мотоцикле в быка врезаемся, а он нас через дуб перебрасывает.
Публике нравится – смеются и хлопают.
Потом на сцену опять выходит солистка Жанна и мы – музыкальное сопровождение.
Чепа задаёт темп, мы вступаем и я чувствую, что гитарные струны у меня под пальцами совсем ослаблены. Это Аксёнов во время «гуморески», а может «гопака», гитару раскрутил для смеху.
Хохмач толстощёкий.
Ну, ладно; Чуба с Чепой гармонию и ритм восполняют, а я, типа, живая декорация – медиатором по струнам бью, но струны не прижимаю, чтоб звука не было.
В заключение концерта – «под занавес» – Мурашковский, как всегда, выдаёт свою главную «бомбу» – гумореска про примака и тёщу.
( … в те времена слово «тёща» было самым магическим заклинанием артистов-юмористов. Стоило человеку со сцены произнести – «тёща!» – и зал от хохота покатом ложился.
Нынче-то население поизощрённей стало, избаловано юмором; теперь актёру комедийного жанра надо поднапрячься и громко крикнуть в микрофон – «жопа!» – а то ведь им и не дойдёт, что пора смеяться.
Ладно, идём обратно на концерт в сельском клубе начала семидесятых …)
Значит, Мурашковский от задней двери с воплями несётся через весь небольшой зал к сцене. В руках у него футляр от баяна, типа, как чемодан с личными пожитками.
Взбирается на сцену и начинает рассказывать гумореску о горькой доле примака.
Как его жена и тёща сдали в милицию на пятнадцать суток, чтоб спасти от запоя.
За это время он приготовил план мести.
Вернувшись после отсидки к месту жительства, он – так, между прочим – извещает, что в погребе развалилась бочка с огурцами.
(Зал оживляется и начинает гыкать.)
Жена с тёщей всполошились и наперегонки спускаются в погреб по приставной лестнице. Примак сверху зачитывает доктрину ветхого завета «око за око» – вы меня посадили, теперь я вас приговариваю к пятнадцати суткам – с разгону хряскает крышкой погреба.
(В зале ликующий гогот.)
Примак спускает в погреб передачу на верёвочке, с интервалом в один день.
(Децибелы хохота докатываются до соседнего села.
Зрители с особенно ярким воображением уже не могут смеяться – просто дёргают головой с судорожно раскрытым ртом, глаза зажмурены и истекают слезами, которые нечем утирать – руки, стиснутые в кулаки стучат по спинке сиденья в предыдущем ряду.)
Через четыре дня вызванная кем-то из сельчан милиция освобождает узниц, а примак получает ещё пятнадцать суток.
(«Бу-га-га!» зала начинает смахивать на коллективный припадок.)
Мурашковский выдаёт заключительную строку, как тореадор добивающий быка:
– Всё – ухожу! Но вашу хату не сожгу, хотя и мог бы!
Обычно на эту фразу зал реагирует прощальным взрывом хохота, способным вынести окна и двери вместе с рамами.
Мурашковский изготавливается делать поклон на общую овацию и…
Тишина.
Абсолютная тишина.
Ни звука.
Все замерли как экспонаты в театре восковых фигур мадам Тюссо.
Лишь где-то в семнадцатом ряду негромко шлёпается в пол запоздавшая слезинка, выхохотанная всего пару секунд назад.
Потом начинают поскрипывать спинки сидений.
Председатель сельсовета подымается на сцену со скомканным словом благодарности за шефский концерт.
Зрители уныло расходятся.
За кулисами Мурашковский бьётся в истерике. Его не знают как унять.
Инструменты и костюмы в рекордный срок загружены в автобус.
Все садятся в комнате завклуба за обычное благодарственное угощенье – хлеб, сало, огурцы, самогон.
После первого стакана председатель сельсовета приносит неловкое извинение Мурашковскому:
– Ну, тут… теє… у нас на селе за месяц три хаты сгорели… никак не найдут кто…
Директор Клуба, Павел Митрофанович, всё более краснея лицом, прослеживает, чтоб водитель автобуса не пил более двух стаканов и после третьего мы выезжаем в ночь.
Меня в ту пору ещё передёргивало от вкуса самогонки, поэтому те пара глотков, заеденные хлебом с салом, быстро выветриваются.
Я смотрю в непроглядную ночь за оконным стеклом. Водитель всю душу вкладывает в скорость и давит педаль газа до самого пола.
Мы несёмся. Несёмся по мягким грунтовым дорогам района.
Свет фар выхватывает из темноты мелькающие мимо ветки придорожных деревьев. Порой промелькивают хаты сёл.
Вон у одной из хат хлопец и девушка. Провожаются. Смотрят на пролетающий автобус. Думают: живут же люди! В городе живут.
Завидуют мне.
Странно, но я завидую им. Провожаются. Мне тоже хочется вот так же. В тёмной украинской ночи.
Но у меня ведь есть Ольга. В её переулке такая же ночь.
А всё равно завидую тому хлопцу.
Странно.
Целоваться Ольга умела и любила, не зря же у неё такие чувственные губы.
Горьковатый привкус горелого табака в её дыхании меня не слишком отвлекал. Да и потом, на следующем провожании до калитки она поделилась со мной сигаретой.
Я опасливо попробовал, но прошло без эксцессов, а дальше и сам втянулся.
В хате, до которой я её провожал, жила её тётка. Ольга приехала к ней на лето, погостить.
Сама она из Феодосии, там у неё мама и старшая сестра.
Отец погиб, когда ей было двенадцать лет. Несчастный случай на тракторе.
Она его так любила, что иногда ходила ночью на кладбище – плакать возле арматурного памятника с табличкой «Абрам Косьменко».
Блатное имя – да? Но он не еврей, просто имя такое.
Мать привела отчима, правда, они не расписаны. Музыкант, на ударнике стучит.
Один раз Ольга лежала на диване с температурой, телевизор смотрела. Он сел в ногах и краем её одеяла укрыл свои колени. Мать как увидела, так орала!