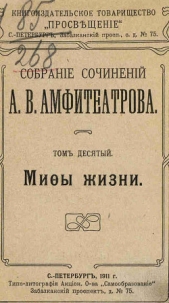Дикий цветок

Дикий цветок читать книгу онлайн
Роман «Дикий цветок» – вторая часть дилогии израильской писательницы Наоми Френкель, продолжение ее романа «...Ваш дядя и друг Соломон».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Историю двух друзей мне рассказывал отец в Иерусалиме в каждый Судный день. Сколько себя помню, я молился с отцом в маленькой синагоге каббалистов в нашем переулке. После поста, когда мы возвращались домой, и я держался за его руку, история о друзьях сокращала нам путь. И всегда эту историю отец завершал словами: «Мойшеле, великая честь для еврея предстать пред Всевышним на исходе Судного дня, как это случилось с Александром Бен-Шломо Вифманом».
Отец рассказывал, что в те годы возникло большое движение «Шиват Цион» – «Возвращение в Сион». Рабби Меир фон-Рутенбург загорелся идеей и встал во главе движения. Кайзер Германии Рудольф фон-Габсбург видел в Рабби Меире вождя. Известным человеком был Рабби Меир, учитель поколения. Но кайзеру, его принцам и епископам не нравилось движение, призывающее евреев вернуться в их страну, ибо тогда бы государственная казна опустела, и чтобы задушить это движение, заключили в острог Рабби Меира. Евреи Германии предложили колоссальную сумму в 23000 марок, чтобы освободить их учителя, но Рабби Меир запретил евреям выкупить его за деньги, и даже угрожал предать их анафеме, если они, не дай Бог, сдадутся шантажу чужих властей. И праведник сидел семь лет в тюрьме, пока не умер. За его тело также запросили выкуп, ибо знали, что евреи сделают все и много заплатят, чтобы предать тело Рабби земле по обычаю Израиля. Но колоссальную цену, которую назначил кайзер, не могли собрать, и Рабби Меир был захоронен в скверне чужой земли. Переговоры продолжались, и из года в год цена повышалась. Длилось это четырнадцать лет, и тогда богатый купец Александр Бен-Шломо Вифман из Франкфурта ценой всего своего капитала выкупил тело Рабби. Через четырнадцать лет после его смерти предали Рабби Меира фон-Ротенбурга иерусалимской земле, покрывающей этот бесхозный участок в Вермейзе, и с царскими почестями привезли его на вечный покой в этот кайзеровский городок. И что же просил за все это Александр Бен-Шломо Вифман? Лишь одного: когда настанет его день, чтобы погребли его рядом с Рабби. Через год после погребения Рабби Меира умер Александр Бен-Шломо, на исходе Судного дня. Так оплатил ему Всевышний за его великое доброе дело.
Дядя Соломон, смотрел я на эти два надгробия и решил вернуться домой к следующему Судному дню. Еще несколько месяцев покручусь здесь, после чего вернусь в Иерусалим. С этим решением я покинул эти два надгробия друзей, но еще долго ходил по кладбищу. Я был один, как будто я последний иудей в мире. Отец посетил это кладбище в двадцатые годы, по пути из Польши в Израиль.
Только здесь, на чужбине, я нашел наконец-то время выполнить завещание отца и обрести еврейскую душу, как отец говорил всегда на идиш – «А идише нешомэ» – «Еврейская душа». В Израиле не было у меня времени для этого, все годы после смерти отца я был очень занят. Прошел две войны во имя евреев, без того, чтобы много знать о них. Но тут, в Лондоне, Париже, Риме, в городах Германии, я сижу в библиотеках университетов, изучаю историю евреев. На кладбище в Вермейзе я беседовал с отцом много раз, и несмотря дождь и ветер, я вспоминал последнее лето отца.
После сердечного приступа он знал, что его ожидает. В то жаркое лет он тяжело дышал, а иногда почти задыхался. Тогда он расстегивал рубаху и массировал крепкую грудь, которую покрывали короткие и мягкие волосы, и я чувствовал то же, что ощущали мои пальцы, когда я прикасался ими к мягкому мху, покрывающему твердые камни, – и снова как будто касался Бога. В последнее лето отца особенно свирепствовали хамсины. Отец пил много воды с кубиками льда. По всему дому таскал с собой стеклянной графин с водой, в котором позванивали кубики льда. С приближением сумерек, жара в доме была невыносима, и мы выходили во двор и сидели на низкой стенке. Отец тяжело дышал, расстегнув рубаху, и горячий ветер завивал седые волосы на его груди. С высоты стенки мы смотрели на переулок, весьма похожий на наш, но он соединял две улицы, и поэтому прохожие на нем были редки. Иногда проходила по переулку девушка, узкая в талии, закутанная в платок и в темных очках, закрывающих лицо. Когда она проходила по переулку, ветер задирал платок, и тогда отец выпрямлялся, лицо его напрягалось, и глаза не отставали от девушки, пока она не растворялась в море камней на дальних горах. Печальные глаза отца еще долго смотрели на камни. Девушка исчезла, отец пил воду большими нервными глотками, и я думал про себя, что он вспоминает умершую маму, и спросил его: «Девушка похожа на маму?» Глаза его сузились, как будто я ударил его, но он рассказал мне историю мамы.
Я явился на свет в родильном отделении больницы «Бикур холим» – «Посещение больных» и принес лишь на миг счастье отцу. Прошла мимо него медсестра и сказала впопыхах: «У вас родился сын». Отец не успел задать вопрос, как она исчезла и возникла другая, но тоже пронеслась мимо. Отец крикнул ей вслед: «У меня родился сын?» Только сердце ответило ему: у тебя родился сын на земле Израиля! Но тут появился врач и сказал отцу, что мама умерла во время родов. Отец стоял в белом коридоре больницы, мимо сновали сестрички в белых халатах, и каждая из них выглядела, как Ангел смерти, и отец останавливал всех криком; «Господи, Владыка мира, ты еще не забыл меня?»
Отец замолк, гладил меня по голове, и ладонь его была тяжела. Он сильно потел, снова пил воду большими глотками, словно хотел залить сердечную боль. Отец мой, больной великан на стенах Иерусалима! Нет более глубокой печали, чем печаль больного отца в часы заката в Иерусалиме. Я прижался к нему и хотел заплакать, думая о маме, которую не знал, но плач не приходил, и я укрыл свое лицо на плече отца от стыда, что мама умерла из-за меня. Отец все глядел на переулок под нами, на стариков и старух, сидящих у входов в старые дома, на поток прохожих и сказал мне: «Мойшеле, люди бегут и не останавливаются даже на миг, а камни остаются на месте. Крепкие камни Иерусалима защищают людей и народ. Мойшеле, держись за эти камни, и не беги! В любом месте и в любое время промелькнут мимо тебя люди, которых ты любил, оставят тебя и исчезнут навеки. Но ты держись за стены Иерусалима и не уходи отсюда».
Дядя Соломон, я шел по дорожкам старого кладбища в Вермейзе и вспоминал отца, сидящего на стенке нашего переулка и дающего мне завещание, отяжеляющее мои плечи. Поднял я голову, и поверх высоких деревьев увидел высокую церковь Вермейзе во всей своей красоте и мощи. Она возвышалась над еврейским кладбищем, словно распространяла власть и на мертвых евреев. Колокола церкви начали звонить, и я прислушивался к их мелодичному перезвону, и думал, что звонят не величию кайзеров и власти епископов, а мертвым евреям, тысячам лет преследований и погромов, которым подвергались евреи под сенью этой церкви, девяти мерам страданий, но и всем поколениям праведников и в том числе моему отцу. И я говорил себе о Рабби Меире фон-Ротенбурге и Александре Бен-Шломо Вифмане языком отца, и повторял его слова во время наших прогулок по новому Иерусалиму, когда он останавливался у каждого строящегося дома: «Мойшеле, строят Иерусалим. Хотя есть еще вражеские народы, выступающие против нас, и войны, и кризисы, и вражда между евреями, но все это больше не остановит освобождение. Мойшеле, хотя Мессия еще не пришел, но мы уже вступили в период тяжких родов нашего освобождения».
И тогда я думал о Рами. Нет у меня лучшего друга, несмотря на то, что произошло между нами. Несомненно, ты будешь удивлен слышать, что пальмы Элимелеха мы назвали пальмами друзей и вырезали наши имена на сожженных стволах. На старом кладбище в Вермейзе я вдруг страстно захотел вырезать на стволе ели, которая высилась над надгробиями, наши имена – мое и Рами. Но идея эта меня рассмешила. Дядя Соломон, ты можешь себе представить имя Рами, вырезанное на ели?
Дядя Соломон, много обетов мы дали под горящими пальмами. Это был наш спорт. Мы нарушили все наши обеты. Но обеты, данные мной под свадебным балдахином, я не нарушил. Сказал Адас – «Ты освящена мне…», и когда наступил ногой на стакан, и разбил его в память о разрушении Храма, я дал обет: «Если забуду тебя, Иерусалим, да забудет меня десница моя, да присохнет мой язык к гортани, если не вспомню его и не вознесу Иерусалим во главу моей радости». И тогда я посмотрел на прекрасное лицо Адас, и она, и Иерусалим слились в моей душе в единый обет. Друзья смеялись над тем, что я сказал, да еще так патетически. Ответил я им, что это самые важные и серьезные вещи, сказанные мной когда-либо, и тогда Рами сказал мне: «Еще бы, эти обеты словно пошиты на тебя».