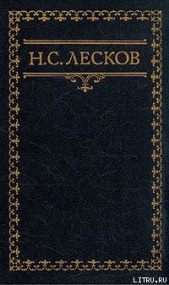Холодная гора

Холодная гора читать книгу онлайн
В последние дни гражданской войны дезертировавший с фронта Инман решает пробираться домой, в городок Холодная Гора, к своей невесте. История любви на фоне войны за независимость. Снятый по роману фильм Энтони Мингеллы номинировался на «Оскара».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Инман предложил ей помощь и провел целый день на ее заднем дворе, сбивая маленький ящик из досок, оторванных от старой коптильни. Они пахли свиным жиром и дымом гикори; их поверхность была черной и лоснившейся от дыма, которым в течение многих лет коптили окорока. Время от времени женщина подходила к двери, ведущей на задний двор, чтобы посмотреть, как идет дело, и каждый раз говорила:
— У моей девочки был понос, как печная зола, целых две недели, перед тем как она умерла.
Сколотив ящик, Инман выстлал его дно сухими сосновыми иголками. Затем прошел в дом, взял девочку, которая лежала, завернутая в одеяло, на кровати. Он поднял ее; она была твердым, плотным свертком, похожим на кокон или чернильный орешек. Инман пронес ее через заднюю дверь, а мать сидела за кухонным столом и смотрела на него пустыми глазами. Он развернул одеяло, положил девочку на крышку гроба, старясь не позволять своим мыслям задерживаться на ее ввалившихся серых щеках и заостренном носу. Он разрезал одеяло ножом и постелил его на дно гроба в качестве внутренней обивки, затем поднял девочку и положил ее в ящик, взял молоток и направился к двери кухни.
— Я собираюсь прибить крышку, — сказал он.
Женщина вышла и поцеловала девочку сначала в одну запавшую щеку, потом в другую и в лоб, затем села на ступеньке крыльца и смотрела, как Инман прибивает крышку.
Они похоронили ее на ближайшем холме, рядом с четырьмя старыми могилами, которые были отмечены плоскими речными плитами из глинистого сланца. Первые три могилы были детскими; в датах рождения не был указан ни месяц, ни год, только число, а даты смерти отстояли от дат рождения всего на несколько дней. В четвертой могиле была похоронена, скорее всего, их мать; Инман заметил, что дата ее смерти совпадает с датой рождения последнего ребенка. Он быстро подсчитал в уме, что ей было только двадцать лет, когда она умерла. Инман вырыл яму для новой могилы в конце этого маленького ряда камней. Когда это было сделано, он спросил:
— Вы хотите что-нибудь сказать?
— Нет, — ответила женщина. — В каждом слове, которое я произнесу, будет только горечь.
К тому времени, когда Инман засыпал яму, стемнело. Они вместе пошли обратно в дом. Она сказала:
— Я обязана накормить вас, но я даже не разводила огонь, ведь мне теперь намного меньше надо готовить.
Она вошла в дом и вернулась с продуктами: два маленьких узелка, один с овсяной крупой, другой с мукой. Большой кусок топленого жира, завернутый в уже потемневшую бумагу, коричневый кусок копченой свиной шейки, несколько кукурузных лепешек, примерно кружка бобов, насыпанных в кулек, лук-порей, турнепс и три морковки, кусок щелочного мыла. Инман взял все это, поблагодарил женщину и повернулся, намереваясь идти. Но прежде чем он дошел до ворот, женщина крикнула ему:
— Я не смогу вспоминать этот день спокойно, если позволю вам уйти без ужина.
Инман разжег огонь в печи, женщина села на низкую табуретку и принялась жарить ему огромный бифштекс; мясо было из туши соседского телка, который увяз в болоте и умер, прежде чем кто-то заметил его исчезновение. Женщина наполнила коричневую глиняную тарелку желтой овсянкой, сваренной так жидко, что она расползлась до краев. Кусок мяса загнулся в сковороде, словно ладонь, протянутая для подаяния, и она положила его сверху на овсянку загнутой стороной вниз, а поверх этого мясного купола водрузила пару зажаренных яиц. Для завершения гарнира она зачерпнула шмат масла величиной с беличью голову и положила его на яйца.
Когда она поставила еду на стол перед Инманом, он посмотрел на тарелку и чуть не заплакал, наблюдая, как масло таяло на яичных желтках и стекало на коричневое мясо и желтую овсянку, пока вся тарелка не заблестела в свете свечи. Он сидел с ножом и вилкой в руках, но не мог есть. Еда, казалось, требовала особой благодарности за то, что вновь появилась перед ним, а он не мог найти слов. Снаружи в темноте крикнула перепелка, подождала ответа и затем крикнула снова; поднялся небольшой ветер, и хлынул короткий дождь, который, зашуршав по листьям и крыше, тут же прекратился.
— К такой еде нужна молитва, — сказал Инман.
— Тогда скажите, — предложила женщина. Инман подумал с минуту и сказал:
— Я ни одной не припомню.
— Благодарю за то, что я получил, — вот одна, — сказала она.
Инман повторил ее слова, стараясь произнести их подобающим тоном, затем добавил:
— Вы не представляете, как давно я не произносил таких слов.
Пока Инман ел, женщина сняла портрет с полки и долго смотрела на него.
— Несколько лет назад мы сделали наш портрет, — сказала она. — Один человек разъезжал в фургоне со всем своим оборудованием для съемки. Теперь у меня остался только этот портрет Она вытерла с него пыль рукавом и протянула Инману маленький дагеротип в рамке.
Инман взял портрет и поднес к свече. На нем были запечатлены отец, эта женщина, несколькими годами моложе, бабушка, шестеро детей, от мальчиков в том возрасте, когда уже носят шляпы, до младенцев в чепчиках. Все члены семьи были одеты в черное; они сидели, ссутулив плечи, и смотрели либо подозрительно, либо ошеломленно, как будто пораженные молвой об их собственной смерти.
— Мне очень жаль, — сказал Инман.
Когда он закончил есть, женщина проводила его в путь. Он шел в темноте, пока в небе не засверкали узоры из звезд, затем возле узкого ручья сделал привал, не разводя костра. Он вытоптал место для сна в высокой сухой траве, завернулся в одеяла и крепко заснул.
После той ночи он каждый день шагал столько, сколько мог выдержать, и спал в птичьих убежищах, так как на несколько дней зарядили дожди. Однажды вечером он обнаружил место в голубятне, и птицы не обращали на него внимания; лишь когда он переворачивался, они устраивали суматоху, издавая влажные курлыкающие звуки, а потом вновь усаживались на место. Следующую ночь он провел, лежа на сухом квадрате земли под высокой голубятней, — это сооружение напоминало храм, посвященный крошечному несуществующему божеству. Ему пришлось спать свернувшись в клубок, так как, если бы он вытянулся, либо его ноги, либо голова оказались бы под стекающими с покатой крыши потоками дождя. Еще одну ночь он спал в пустом курятнике; там он расстелил подстилку на земляном полу, который был покрыт толстым слоем засохшего куриного помета; Инман ощущал его под собой как гравий, и запах от него был как от пыльных останков древних мертвецов. Проснувшись задолго до рассвета, Инман не мог снова заснуть; подтянув к себе мешок, он нашел там огарок свечи и зажег ее. Затем развернул свиток книги Бартрэма, поднес ее к желтому свету и стал листать страницы до тех пор, пока не натолкнулся взглядом на отрывок, привлекший его внимание.
«Горная дикая местность, которую я пересекал в последнее время, казалась однообразной и правильно волнистой, как огромный океан после бури; эти волны мало-помалу уменьшались, все так же совершенно регулярно, как чешуя у рыб или орнамент черепицы в виде рыбьей чешуи: ближайшие ко мне — совершенно зеленые, следующие — серовато-зеленые и самые последние — почти голубые, как небеса, с которыми, казалось, сливался самый отдаленный изгиб горизонта. Мое воображение, таким образом, было целиком захвачено этим волшебным пейзажем, бесконечно изменчивым и безграничным; я почти не сознавал или не обращал внимания на другие прекрасные объекты, которые мог окинуть взглядом».
Инман вдруг мысленно увидел картину этой земли, так подробно описанной Бартрэмом. Горы и долины, перемежаясь, тянулись бесконечно. Угловатый, изрезанный глубокими ущельями корявый ландшафт, где человек был лишь случайной песчинкой. Инман много раз видел пейзажи, которые описывал Бартрэм. Это была бескрайняя страна, раскинувшаяся на север и запад от склона Холодной горы. Инман хороню ее знал. Он исходил все ее отроги, перечувствовал все ее времена года, заметил все ее цвета и ощутил все ее запахи. Бартрэм был лишь путешественником и знал только то время года, когда он был там, и ту погоду, которая случилась в те дни. Но для Инмана земля, которую он видел в своем воображении, была не такой, какой он знал ее всю свою жизнь, но такой, какой описал ее Бартрэм. Вершины теперь были более высокими, долины более глубокими, чем на самом деле. Инман мысленно представил затухающие ряды хребтов, бледных и высоких, как облачные берега, построил рядами их контуры и окрасил каждую тень более бледной и более голубой до тех пор, пока не достиг наконец самого далекого хребта, который сливался с небом; тогда он заснул.