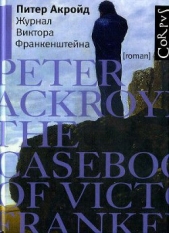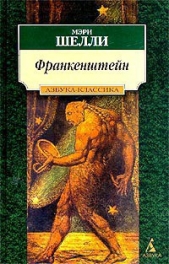Воспоминания Элизабет Франкенштейн

Воспоминания Элизабет Франкенштейн читать книгу онлайн
Впервые на русском — новый роман автора знаменитого конспирологического триллера «Киномания»!
Все знают историю о докторе Франкенштейне и его чудовище; за минувшие почти два столетия она успела обрасти бесчисленными новыми смыслами и толкованиями, продолжениями и экранизациями. Но Элизабет Франкенштейн получает слово впервые. История ее полна мистических ритуалов и сексуальных экспериментов, в ней сплелись древняя магия и нарождающаяся наука нового времени, и рассказана она голосом сильной женщины, столкнувшейся с обстоятельствами непреодолимой силы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Ах, Уолтон, вижу на вашем лице отвращение, — с непритворным разочарованием вздохнул мой собеседник, — Вы еще не настолько человек науки, чтобы беспристрастно судить о моих усилиях. Или, быть может, я уже не настолько человек, чтобы судить о своем деянии с отвращением, какого оно заслуживает. Вы правы, относясь ко мне настороженно. Как могу я рассчитывать, что вы закроете глаза на крайности, на которые я пошел в упоении от первых успехов? Сознаюсь, в редкие мгновения нравственного прозрения я сам содрогался от того, что творил. Бывало, я чувствовал себя друидом, обязанным приносить младенцев племени в жертву жестокому богу. Но умоляю, поверьте: я не заходил дальше использования абортивных зародышей, жизни, у которой не было никакого шанса продолжаться, которые не успели сделать ни единого вздоха, извлеченные из материнского тела. Я не убийца, друг мой! Клянусь вам, я лишь сохранял для необходимых опытов то, что иначе было бы за ненадобностью выброшено на свалку. Только таким путем я мог добиться, чтобы орган разума был способен существовать отдельно от тела».
Я полностью привел здесь исповедь Франкенштейна; вот так его противоестественное творение обрело сознание. Единственное, что отсутствует в его рассказе, — это точная рецептура тех химических составов, с помощью которых он так превосходно сохранял отдельные органы, из которых собрал тело этого существа. Франкенштейн и это обещал сообщить мне, поскольку я настойчиво просил его раскрыть малейшие подробности его открытия. Но несчастный умер, не успев выполнить обещание.
Я был бы неискренен, если бы не признал того, что, невзирая на моральное неприятие, вызванное рассказом Франкенштейна, меня и спустя много лет после нашей с ним встречи подспудно жгла крохотная искра зависти. Если б я когда-нибудь смог поверить в правдивость его истории, мне пришлось бы допустить, что этот человек заглянул в самые непроницаемые глубины непознанного, приподнял покров над тайной тайн. Проект, приведший меня в пустынные просторы Арктики, — как, в сущности, любая из задач, которые я когда-либо ставил перед собой, желая показать, чего стою, — бледнел на фоне его достижения. Но даже если бы у меня возникла мысль поставить перед собой столь дерзкую цель, хватило бы у меня смелости совершить то, что совершил он?
Со временем затаенное восхищение, которое я некогда испытывал к Франкенштейну, уступило, надеюсь, более здравому суждению о нем. Но и поныне меня раздирают противоречивые чувства, когда я оглядываюсь в прошлое, не уверенный, что обнаруживает во мне истинного ученого: давняя зависть к бесстрашию Франкенштейна — или стыд, который я ныне испытываю, за то, что поддался этому чувству?
Тревожные ночи, беспокойные сны
Тем летом революция пришла в Женеву.
Швейцарцы, неизменно самый реалистичный из народов, едва только во Франции начались беспорядки, поняли, что даже наши пограничные горы не смогут долго защищать нас от политических штормов, грозивших захлестнуть Европу. Все понимали, что это лишь вопрос времени: ярость на ancient ré gime [51], вырвавшись на свободу, перекинется через границы и принесет с собой кровь и разруху. Не успела рухнуть Бастилия, революционно настроенные швейцарские é migré s [52], укрывшиеся в Париже, начали строить мстительные планы возвращения из изгнания. Когда этот день пришел, семейное гнездо Франкенштейнов оказалось в особой опасности, ибо, по извращенной логике событий, мы стали врагами обеих сторон в их титанической схватке. Несмотря на свое богатство и высокое положение, барон давно был известен в Европе как искренний сторонник либерального дела. Роль, которую он сыграл в поддержке восстания американских колонистов и жирондистов во Франции, была общеизвестна. Благородный в устремлениях—в его лице век разума имел самого преданного своего сына, — он, служением партии Гуманизма, навлек на себя ненависть закоснелых в невежестве аристократов. Неспособные увидеть разницу между конституционным республиканцем и заклятым цареубийцей, перепуганные и мстительные швейцарские олигархи объявили его предателем своего класса. И одновременно какая ирония была в том, что чем больше революция оказывалась под влиянием экстремистской группировки, те же самые освободительные силы, становлению которых отец всячески способствовал, теперь обернулись против своего благодетеля, словно он был не лучше любого другого аристократа. Соответственно он стал мишенью как для демагогичных фанатиков, так и для самых реакционных феодалов. Обе стороны жаждали его крови.
Никогда отец так не восхищал меня, как в то критическое время, когда он отважно бросал вызов своим врагам из обоих лагерей. Тем не менее он был достаточно предусмотрителен, чтобы принять меры предосторожности. Начиная с лета 1792 года, когда Франция постепенно погружалась в хаос, у нас всегда стояли наготове карета и обоз, чтобы можно было отъехать из любого конца поместья. По первому знаку мы могли бежать — на северо-восток, в Германию, или на юг, в Пьемонт. Из домашних слуг и работников сколотили отряд, наскоро обучили пользоваться мушкетами и пиками; они вряд ли могли оказать достойное сопротивление буйным толпам, бродившим по дорогам, но по крайней мере дали бы шанс ускользнуть карете и повозкам.
В октябре случилось то, чего мы опасались больше всего. Мы получили известие, что войска генерала Монтескьё наступают на Женеву. Как обиталище Руссо, город считался одной из духовных столиц революции. Вдохновленные приближением французских легионов, демагоги, которым нравилось называть себя патриотами — последователями кровавых Робеспьера и Сен-Жюста, — свергли городское правительство и повели наступление на собственность и привилегии. Несколько недель мы со страхом ожидали нападения радикальных элементов, чьи костры еженощно видели на дорогах и деревенских площадях. И каждую ночь по всему кантону банды мятежников грабили дома богачей и вешали их обитателей; но прежде, чем эти варвары успели обратить внимание на Коллонж и Бельрив, произошло ужасное. Разнеслось известие, что обезглавили Людовика. В Париже правил террор, называвший себя доблестной республикой. Сошедшая с ума Франция, которой правили якобинцы, скоро была атакована по всем фронтам войсками цивилизованной Европы; война приняла всеобщий характер. Армию Монтескьё отозвали на родину, и вторжение в Женеву не состоялось. Как следствие, революция в Швейцарии закончилась, едва начавшись.
Я без труда поверила словам отца, что никогда в общественной истории не было подобных эпохальных сдвигов. Сотрясались незыблемые основы мира; казалось, возможны проявления любого, прежде немыслимого экстремизма. Век, который Ньютон и Локк объявили веком разума, завершался под тенью эшафота.
В разгар этих бурных событий из Ингольштадта вернулся Виктор.
Я приготовилась встретить его, держась крайне независимо, как и при расставании два года назад. Но моя решимость растаяла, едва он шагнул из дилижанса. Я сразу увидела, как ужасно он изменился. Это был не тот прежний Виктор, с которым я так холодно распрощалась. Передо мною был сломленный человек — худой, пожелтевший, дрожащий, столь явно измученный невзгодами, что казалось, ему уже все равно, какие еще несчастья могут обрушиться на него. Меня саму удивила невольная жалость, стиснувшая мое сердце при виде его скорбной фигуры. Куда только девалось недоверие, которое в последнее время я единственно чувствовала, думая о нем? Оно исчезло. Он больше не был для меня бездушным обольстителем; передо мною была лишь жалкая тень той юношеской неуемности, которую я когда-то любила в нем, которой восхищалась. Мне ничего не оставалось, как думать, что, подобно тому, как повсюду вокруг меня революционные идеалы оборачивались зверствами, так и прометеев огонь, некогда пылавший в душе Виктора, угас, оставив после себя один пепел. Больше того, хотя в тот момент я не могла знать об этом, миру грозил иной террор, ужасней, чем тот, чьих жертв везли повозки по улицам Парижа на казнь. Человек, стоявший передо мной, был его предвестником; он один увидел злой рок, рожденный в лаборатории.