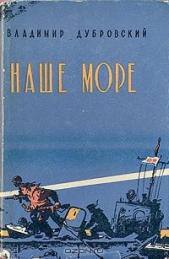Монументальная пропаганда

Монументальная пропаганда читать книгу онлайн
Новые времена и новые люди, разъезжающие на «Мерседесах», – со всем этим сталкиваются обитатели города Долгова, хорошо знакомого читателю по роману «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».
Анекдоты о новых и старых русских невероятно смешны. Но даже они меркнут перед живой фантазией и остроумием Войновича в «Монументальной пропаганде».
Вчерашние реалии сегодняшнему читателю кажутся фантастическим вымыслом, тем более смешным, чем более невероятным.
А ведь это было, было…
В 2001 году роман был удостоен Госпремии России по литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Люди, которые случайно сюда приходили, склоняли над камнем головы или не склоняли, а просто стояли в раздумье, полагая, что здесь действительно покоится герой, совершивший выдающийся подвиг. На самом же деле здесь не лежал никто. Потому что найти труп Ревкина после взрыва не удалось, тем более что никто не искал, тем более что искать было нечего, поскольку в результате взрыва вся электростанция была разнесена на куски, а неразнесенное выгорело, а если бы и не выгорело, то кто в условиях немецкой оккупации мог бы разыскивать трупы на территории станции и с почестями захоранивать? Чушь какая-то, да и все. Аглая, конечно, знала, что здесь никто не лежит, или должна была знать, но мозги идеологически ориентированного человека так устроены, что, зная одно, он верит в другое. И Аглая знала, что Ревкин здесь не лежит, но верила, что лежит.
Снег подтаял и сполз вниз, обнаживши покрытые жухлой травою горбушки могил. Аглая постояла у могилы, пообещав мысленно тому, кто здесь не лежал, что в начале лета вернется, прополет старую траву и посеет новую.
Дальше маршрут ее движения был прямой и короткий.
Подойдя к памятнику, она сначала положила цветы к пьедесталу, а потом отошла назад, подняла голову и только сейчас увидела, что здесь что-то не так. Сталин стоял на прежнем месте, в прежней позе, с привычно поднятой правой рукой, но взгляд у него был грустный, осанка изменилась, словно он как-то (не может этого быть!) ссутулился. А на фуражке его – вот что было невероятно! – миловались и ворковали два сизых, жирных, отвратительных голубя. Казалось, что тут особенного, чего можно требовать от этих безмозглых тварей, никаких памятников они не избегали. Но ведь этот памятник отличался от всех прочих, и они сами его отличали. За все время ни одна птица не смела тронуть статую ни ногой, ни крылом. Был случай, единственный, – ворона с коркой хлеба села на фуражку, но не успела еще коснуться поверхности, как, выпустив пищу, с диким криком отлетела в сторону и камнем грянула на асфальт. С тех пор уж точно ни одна крылатая тварь даже и не пыталась использовать статую как посадочную площадку. И вдруг – эти глупые птицы! Как они поняли, что теперь можно и садиться сюда, и гадить? И уже покрыли верх фуражки белым пометом, потеки которого были видны на козырьке, на левом плече и на отвороте шинели.
– Кыш! – закричала Аглая слабым голосом. – Кыш, вы, проклятые!
Но проклятые на ее крик реагировали самым пренебрежительным образом. Более жирный, очевидно самец, наклонил голову, скосил один глаз на Аглаю и, повернувшись к голубке, что-то проворковал ей, а она в ответ ему тоже что-то забулькала. У Аглаи было такое ощущение, что они просто над нею смеются. Она посмотрела вокруг, нет ли под ногами какого-нибудь камня, нашла серую гальку размером с яйцо и размахнулась. Камень ударился о левое голенище, упал перед постаментом, и, проследив за его падением, Аглая только сейчас увидела на снегу рядом со своей геранью жалкую, бедную, одинокую веточку желтой мимозы. Забилось радостно сердце. Значит, не одна она в этом городе помнит и чтит дорогого, любимого, единственно незаменимого.
– Да, – услышала она сзади тонкий вкрадчивый голосок, – есе не все всё забыли. Люди любят зелезо, птицы любят зелезо, но когда зелезо будет падать, птицы взлетят, а люди летать не умеют. Они тязелые, клыльев нет и тязелые, они летать не умеют, и зелезо упадет на зелезо.
Аглая обернулась. Шурочка-дурочка в плюшевой куртке, сверху закутанная в мешковину, смотрела на Аглаю безумным загадочно мерцающим глазом.
– Что ты мелешь! – возмутилась Аглая. – Какое железо? Куда будет падать?
– Люди летать не умеют, – убежденно повторила Шурочка. – А зелезо падает свелху вниз.
– Отзынь! – сказала Аглая и пошла прочь быстрым невихляющим шагом.
10
Детский дом помещался в старинном особняке с шестью колоннами, принадлежавшем когда-то предводителю местного дворянства. Судя по общей обветшалости фасада и облупленности колонн, дом с тех пор ни разу не ремонтировался. Но зато был одним из немногих ценных строений, не поврежденных войной.
Преодолев две тяжелые двери, Аглая вошла в вестибюль, и первое, что бросилось ей в глаза, была стенгазета «Счастливое детство». Света Журкина, ученица седьмого «Б» класса, стояла возле газеты и, высунув язык в сторону левого уха, переписывала что-то себе в тетрадку. Увидев Аглаю, поздоровалась, смутилась, закрыла тетрадку и отошла.
Поведение ученицы показалось Аглае подозрительным. Она приблизилась к газете и обомлела. Стихотворный текст, который не успела переписать Журкина, был в третьем столбце, после передовой, посвященной вопросам трудового воспитания молодежи.
Стихотворение, никем не подписанное, называлось «А мы так верили в тебя». В нем содержались упреки некоему полководцу, фамилия которого не указывалась, но всем было ясно – какому. Говорилось, что полководец вел нас от победы к победе, но при этом, пользуясь нашим безграничным доверием, творил очень нехорошие дела. Заключительная строфа выражала глубокое разочарование автора в своей былой приверженности полководцу, но тут же выражалась оптимистическая надежда, что в будущем все будет не так. Строфа завершалась полемическим вопросом: «Бывает гладко все не разом при штурме новой высоты. Я верю в коллективный разум, я верю в партию. А ты?»
Полоса со стихами была приклеена плохо – очевидно, картошкой. Или клейстером. Или просто слюной. Аглая схватила бумагу за отвалившийся угол, сорвала ее и, сжав как змею, быстро пошла к себе в кабинет. Секретарша Рита, щурясь в маленькое зеркальце, выщипывала пинцетом брови. Увидев вошедшую, вскочила.
– Здравствуйте, Аглая Степановна. Выздоровели?
– Выздоровела, – пробурчала Аглая. – Шубкин где?
– Только что тут крутился. Кажется, пошел в общежитие проверять у девочек заправку постелей.
– Пусть зайдет ко мне, – приказала она и скрылась в кабинете.
Швырнула бумагу на пол. Подняла. Положила на стол. Опять швырнула и опять подняла. Сняла пальто и стала быстро из угла в угол расхаживать по кабинету. Но тут же притомилась, запыхалась и вспотела. Все-таки была еще слаба. Услышав голоса в приемной, села за стол и изобразила на своем лице каменное выражение.
Марк Семенович Шубкин был человек лет пятидесяти, крупный, полнеющий и лысеющий, со свежим цветом лица, какой бывает у сельских жителей и заключенных. Похожий, между прочим, на Ленина. Ростом намного выше, но, как и Ленин, с преогромнейшей головой шестьдесят, как он сам уверял, шестого размера.
Работал он воспитателем в группе дошкольников и в порядке общественной нагрузки редактировал стенную газету. Ему эта работа была доверена неосмотрительно. Добровольно вести газету никто не хотел, а он, дорвавшись, без конца печатал в ней свои стихи и заметки. Что могло бы считаться для газеты немалой честью. В Долгове были свои поэты – Бутылко, Распадов и прочие, но выше областной печати им подниматься не доводилось, а Шубкин в тридцатых годах печатался (ого где!) в «Известиях», в «Комсомольской правде» и в «Огоньке».
– Подойдите к столу, – велела Аглая, не отвечая на приветствие Шубкина. – Кто написал эту пакость? – Ее губы искривились в брезгливой гримасе, а глазами она показала на свернувшуюся спиралью полоску бумаги.
Шубкин протянул руку, но бумагу не взял, передумал.
– Я вас не понял, – сказал он и смиренно посмотрел на Аглаю.
– Я вас спрашиваю, – постукивая по столу пальцами, повторила она, – кто написал эту пакость?
– Вы имеете в виду эти стихи? – спросил он, поощряя ее к исправлению терминологии.
– Я имею в виду эту пакость, – стояла на своем Аглая Степановна.
– Эти сти-ти-тихи, – Шубкин от волнения заикался, – написал я.
– И кто же вам позволил написать эту пакость? – повторила она с непреклонной враждебностью.
– Эту па-акость мне па-азволила написать па-артия, – сказал Шубкин, бледнея, и выпятил грудь.
– Ах, па-па-а-артия, – передразнила Аглая. – Партия позволила. Нет, дорогой друг, партия тебе еще пока не позволяет всякую дрянь писать и спекулировать на теме. Я с этой дрянью вот что сделаю, вот. – И полетели на пол клочья бумаги. – Если ты думаешь, что на Двадцатом съезде была отменена генеральная линия, то ты неправильно понимаешь. Партия вынуждена была пойти на некоторые поправки, но сомневаться в главном мы никому не позволим. Сталин как был, так и есть – ум, честь и совесть нашей эпохи. Был и есть. И все, и ничего более. И если о нем там кто-то что-то может сказать, это не значит, что каждому будет позволено. Надо же! – Она постепенно успокаивалась. – Каждый пишет чего ни попадя. «Верю в коллективный разум». Верующий какой нашелся! Ты вот, если такой сатирик, написал бы про мусорные бачки. Стоят, понимаешь, без крышек, а от них вонь, антисанитария, мухи. Сколько можно говорить, чтобы сделали крышки? Я завхозу два выговора влепила, скоро третий вломаю, строгий с предупреждением, а он хоть бы хны. Вот, если ты талант, сатирик, возьми и ударь сатирой по мусорным бачкам.