Музыка на иностранном
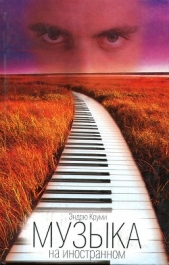
Музыка на иностранном читать книгу онлайн
История шантажа, предательства и самоубийства? История переоценки ценностей и неизбежного для интеллектуала «кризиса середины жизни»? Все это — и многое другое… Дебютный роман знаменитого автора «Мистера Ми» и «Принципа Д'Аламбера»!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Работы Галли буквально пропитаны духом анархизма, весьма привлекательным для тех, кого подобные идеи не раздражают. Именно он и пленил меня в молодости, когда я наткнулся на совершенно очаровательный «Racconti Impossibili»[3] — сборник «невероятных историй», в которых, например, описание кресла мало-помалу переходит в рассказ о том, сколько людей в нем сидело, а из этого вытекали рассказы о других креслах, в которые сидели те люди, и так далее до бесконечности; рассказы множились, им не было видно конца — и тут Галли вдруг прерывал все это кратким «дальнейшее очевидно». В своих произведениях Галли предлагает читателю уйти от тирании логики, выйти за ее пределы. В литературе возможно все; в ней все может быть совершенно не тем, чем кажется. В ней все иначе. Для любого, кто рос в Британии в суровые послевоенные годы, в таком подходе была неизъяснимая притягательность. В конце концов я пришел к одному очень простому выводу: в реальной жизни все тоже могло быть иначе — на что ни взгляни, это лишь единичный случай, затерянный в многообразии возможностей, которые могли бы осуществиться. Почему же тогда история выбирает один вариант, предпочитая его всем остальным? Я нередко задумывался об этом, особенно наблюдая за эволюцией женской моды.
В Милане, где я последние двадцать лет преподавал в университете, было немало возможностей для подобных наблюдений. Моя покойная жена тогда постоянно ворчала, что я все время верчу головой, заглядываясь на интересные виды, а именно — на девушек в каких-нибудь особенно сногсшибательных нарядах. И каждый раз я ее уверял, что я не на девушек заглядываюсь, а стремлюсь познать сущность истории.
Помню, лет двадцать назад я увидел одну девушку в потрясающем костюме в черно-белых тонах, тоненькую, как тростинка. На ней был длинный белый жакет с громадными черными круглыми пуговицами. Я только что сошел с поезда, я был измотан дорогой, весь мокрый в своем толстом сером костюме — и мне вдруг подумалось, что в этом наряде она похожа на циркового клоуна. У меня было стойкое ощущение, что не успел я покинуть один цирк, как тут же попал в другой; хотя в то время новый манеж казался мне предпочтительней прежнего. Это было двадцать лет назад. Прошло десять лет, и никто уже не носил ничего даже близко похожего на наряд, как у той милой девушки-клоуна на вокзале. Что же случилось за это десятилетие? Очередной поворот истории. Все мы стали немного старше, все мы чуть-чуть повзрослели; молоденькие девушки категорически отвергли вкусы своих мамаш. Появились новые фасоны и стили, и их предпочли старым — почему? Неизвестно; новая мода была нисколько не лучше прежней, она была просто другой. А еще через десять лет женщины снова вернутся к клоунским нарядам, будут носить их и очень гордиться собой.
Представим себе грандиозную книгу: «История моды». Я нисколечко не сомневаюсь, что подобные книги уже существуют. Мне представляется такая большая, тяжелая, глянцевая — идеальная «книга для кофейного столика». В ней рассказывается об эволюции костюма, разумеется, европейского, хотя можно сделать и несколько вежливых реверансов в сторону других культур и традиций. В начале книги — рисунки с изображением первобытных людей в звериных шкурах, что вроде как отражает истоки и придает книге вид серьезного исторического исследования. Листаем книгу: вот женщины средних веков в фантастических остроконечных головных уборах и тесных лифах; потом — невообразимые юбки на кринолинах. В свой черед возникают, но быстро «сходят со сцены» турнюры. Начало нашего века — то, что носили тогда, сейчас уже трудно представить надетым на человека; все равно что пытаться вообразить динозавра в доисторических джунглях. Листаем дальше — у каждой эпохи свой стиль, своя мода. А на последней странице — не менее сотни современных нарядов, и гордая подпись внизу: «В современном мире, который меняется день ото дня, каждый из нас наконец-то волен выбирать для себя из бесконечного множества стилей именно тот, который больше всего ему подходит и лучше других выражает его индивидуальность». Конечно, лет через сто моду нашего времени проиллюстрируют каким-нибудь одним фасоном и назовут его «стилем эпохи». Но если бы было возможно показать нашу книгу средневековой даме в остроконечном головном уборе, она скорее всего удивилась бы, почему из всего многообразия моды, из всей богатейшей культуры ее эпохи мы выбрали именно этот, совершенно нехарактерный образчик.
А чем, по сути, история народов отличается от истории моды? Идеология возникает, распространяется, убивает миллионы людей, которые гибнут во имя нее. А потом ее время проходит. Она вымирает. Как и динозавры, она попросту выходит из моды.
Откуда она возникает, эта необоримая сила — стремление к переменам? Где причина, где следствие: это женщины всего мира рабски следуют капризам нескольких кутюрье или же преуспевающими модельерами становятся те, кто сумел углядеть тенденции своего времени? Можно ли целенаправленно внедрить идеологию в народ, сплошь состоящий из невосприимчивых, неподдающихся влиянию, наивных простаков, или же она всегда — отражение чего-то уже существующего, так сказать, извращенная пародия на некий коллективный дух?
Можно ли остановить ход истории? Целых сорок лет наш народ коченел в морозильнике коммунизма; был объявлен конец истории. Никаких перемен: из года в год — ездить на одной и той же машине, носить все ту же скверно пошитую одежду, читать одни и те же книги, в крайнем случае несколько версий одних и тех же книг. Кружка пива — и та не менялась в цене тридцать лет. А потом дверь морозилки внезапно открылась, и внутрь забросили лопату раскаленных углей. И наступило прозрение, и все, что было для нас таким важным, оказалось всего лишь иллюзией. Власть и страх предстали во всем своем многообразии, и стало ясно: кое-что из этого многообразия попросту вышло из моды. И почему это случилось — по доброте ли душевной того кочегара, что орудовал лопатой с раскаленным углем?
Вспомним еще раз Ф.: Лоуэлл довольно подробно описывает и реальную, и воображаемую жизни этого пациента. Как я уже говорил, до травмы, в своей настоящей жизни, он был рабочим, тридцати лет, без семьи, вообще человек одинокий, если не считать пары-тройки друзей. После того как он вышел из комы, он с любовью рассказывал о своей жене Нэнси, которая работала на полставки продавщицей в одной бакалейной лавке. Он познакомился с ней лет пятнадцать назад на танцах, куда они с приятелем зашли совершенно случайно, лишь потому, что не было билетов в кино. И эта случайность оказалась счастливой. Несколько месяцев он ухаживал за Нэнси, наконец она согласилась выйти за него замуж, и спустя несколько лет у них родился сперва сын, а потом — дочка. Психотерапевтам предстояло разубедить Ф., доказать ему, что ничего этого не было — ни танцев, ни Нэнси, ни пятнадцати лет счастливой семейной жизни. Что страшнее: узнать, что твои жена и дети погибли, или вдруг обнаружить, что их вообще никогда не было?
И надо ли сообщать Дункану, что на самом-то деле его отец не был тем героем-диссидентом, каким он представлялся сыну? Надо ли пощадить его и избавить от этой навязчивой, бесконечно повторяющейся сцены — сцены, в которой сотрудники тайной полиции убивают его отца? Да, можно было бы сказать ему правду, что его отца не убивали, что все было совсем по-другому. Но, как мог бы заметить Галли, что это даст?
Музей трудящихся закрыли, экспонаты увезли. И не только фотографии политиков; в музее была экспозиция профсоюзных транспарантов; в стеклянных шкафах стояли манекены в разнообразных рабочих робах; на стенах висели плакаты: мужчины и женщины цветущего вида, занятые выполнением и перевыполнением производственных норм; там были шахтерские каски всех видов; всевозможные значки и эмблемы в выставочных витринах. Однако все это было иллюзией — и транспаранты, и значки, и стеклянные шкафы. Это была всего-навсего фотография, вернее, часть фотографии, вырезанная и наложенная на другую, тоже самую обыкновенную фотографию. А теперь в этом здании выставляют модели «Лего».

























