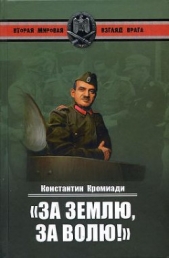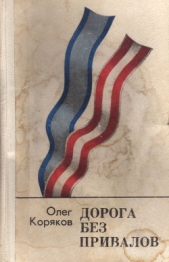Палисандрия

Палисандрия читать книгу онлайн
«Палисандрия» (1985) – самый нашумевший из романов Саши Соколова. Действие «Лолиты наоборот» – как прозвали «Палисандрию» после выхода – разворачивается на фоне фантастически переосмысленной советской действительности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Врожденное уважение ко всякого рода писчебумажному, развившееся с годами в неизлечимый, но гениальный недуг графомании, не должно тем не менее заслонить остальных достоинств Вашего корреспондента. Никуда, например, не спрячешься от наиболее зримого: я велик. Знаете ли Вы, что с младенчества мне все приходилось не впору, все было мало, и, чтобы не мучить плоти, я почти постоянно ходил то в тунике, а то в хитоне.
Известно также, и документально подтверждено, что под сорок четвертым годом голландские ванноделы сработали для меня специальный сосуд – навырост. Но вскоре прихлынуло отрочество, полное половозрелых забав, и, упираясь в мужающий подбородок, из полой воды и грязи опять заторчали колени. Последовал новый правительственный заказ. Полученное было сродни надувной резиновой лодке. Надув, Вы усаживались в это эластическое плескалище и привычным телодвижением академического гребца переходили в положение лежа, одномоментно растягивая собою сосуд на собственные габариты. Безразмерная, ванна почти облегала Вас. Влага поэтому в основном вытеснялась телом, а небольшая масса оставшейся быстро стыла. Будучи хрупкого здравия, но нередко витая в других эмпиреях. Вы почти что не замечали этого. Закалка сказалась. Крепостной эскулап Припарко Семен Никитович в своих медицинских воспоминаниях констатировал: «П. перестал прихварывать и сделался еще крепче душой».
Прекрасно; а был ли я силен и физически? Вне сомнений. Так, шея отловленного на кремлевских задворках цыпленка сворачивалась мной, малолетним, с такой же легкостью, с какою мой дед по матери Григорий Новых (Распутин) сворачивал шеи своим идейным противникам. С молоком кормилиц всосал я восторг перед замечательным старцем. Его поясной портрет, обретенный в семейных архивах, стал одним из моих настольных. Он высится меж чернильным прибором и черепом капитана Кука, подаренным автору полинезийским вождем. Череп мог бы служить мне пепельницей, однако не служит, ибо я никогда не работаю в кабинете. Годами царящий там кавардак претит мне, но в принципе безысходен: прислугу туда я не допускаю – она у нас чересчур любопытна, а самому прибраться то, знаете ли, невдомек, то, вроде бы, недосуг, то что-нибудь третье. Поэтому главным образом творю в процедурной, читай – в ванной комнате, в ванной библиотеке. Рядом с Распутиным – изображение более отдаленного предка: сэр Лэрри Дальберг. Немец грузинского происхождения (Полная фамилия – Дальбергия), он связал себя первым браком с прародительницей Уинстона Черчилля, Шерри Фли, а вторым – с шотландской принцессой Пегги. Гигант о девятистах с лишним фунтах, Лэрри прослыл полнейшим человеком эпохи, но полнота не мешала ему работать на благо и процветание общества, быть его полноценным членом. Владелец большого узилища неподалеку от Глазго, он содержал заведение в образцовом порядке и добросовестно выполнял поручения власть имущих, связанные по преимуществу с казнями диссидентствующих молодчиков. Не вдаваясь в портретную характеристику пращура, укажу лишь на самую выразительную деталь его туалета. На голове у Лэрри – мешок, а точней – мешковатая маска с прорезями для всепроницающих глаз. Палаческая карьера Дальберга достигла своего апогея в пятьсот восемьдесят седьмом году, когда он, в невидимых миру слезах, обезглавил свою любимую тещу Марию Стюарт и стал предметом ночтенья и зависти передовых зятьев Возрождения. Труд Дальберга был высоко оценен. Яков Первый Английский наградил его титулом Лорда и орденом Топора первой степени.
В часы процедурных раздумий о судьбах Родины я умозрительно, но откровенно любуюсь моими досточтимыми праотцами. Тому ж, кто, стесняясь невысокого происхождения, пытается отыскать свои корешки в чужом огороде, говорю не тая: ступайте и посмотрите, какою гордостью за не столь уж далеких предков – безвестных работников основных путей сообщения, разбойников и пиратов – светятся и даже как-то неуютно посверкивают глаза австралийской элиты. Особенно с наступлением ночи – ночи цикад и летающих тараканов, слетающихся на террасы особняков послушать ноктюрнов; ночи кроликов, муравьедов и броненосцев; ночи сумчатых упырей и русалок; с наступлением сумчатой ночи, бредущей своими пустынями от норы к норе за зернами подаяния; ночи, пожалованной за беспримерное мытарство бриллиантовым Южным Крестом,– пожалованной и осиянной. Ибо к кому бы ни восходил Ваш род – пусть к самому отъявленному прохвосту,– Вы не вправе чванливо отворачиваться от родственника в годину его запредельного отчуждения. Ибо кто Вы такой – кто Вы сами, чтобы, не зная доподлинно обстоятельств земного его пребывания, мотивов, побудивших его к неверным поступкам или будивших в нем зверя, хулить его, осуждать. Что за бестактность, право! Да сами Вы после этого жулик, сударь. Жулик и сноб. И я первый не поприветствую Вас из своего экипажа.
При всем при том вести свою родословную от высшей аристократии, мне подобно, тоже не возбраняется. Это облагораживает, бодрит. И если бы я не имел никакой информации о менее отстоящих предках моих, а среди приглашенных случились даже и знатные австралийцы, то и тогда я навряд ли ударил бы в грязь лицом на рауте у этрусков. Мне было бы чем блеснуть, генеалогически говоря, и им не пришлось бы краснеть за приемыша.
Так я мыслил, стараясь оценивать не только свои достоинства с колокольни этих беспримерно милых людей, а и достоинства их предложения со своей. Казалось, наша взаимозаинтересованность напоминает взаимозаинтересованность пары взволнованных Сарасате рук, которые не успокоятся до тех пор, покуда не встретятся, не обретут друг друга, и пальцы их не сомкнутся в замок, взаимозаполнив зияющие пустоты промеж. И лишь тогда Вам вздремнется.
И не беда, что, родившись и проведя столько лет в изоляции, за кремлевскими стенами, я никогда не бывал в Бельведере; зато теперь все во мне говорит за то, чтобы ехать туда хоть тотчас – хоть вскачь. И зато я пронзительно одинок, сиротлив, неуемно талантлив. И пусть, наконец, музицирую я не часто и не ахти – музыкален я дьявольски. У меня обостренное чувство гармонии, такта, отменный слух. «Э, батенька, да вы, я чай, абсолютный ушан»,– сказал мне Стравинский, когда на его бенефисе, ребячествуя, я спародировал ля-диез прокофьевской чайной ложки, упавшей на пол по нерасторопности Ростроповича. Словом, участь этрусских ценностей, в т. ч. и бумаг, представлялась решенной, и все во мне в предвкушеньи внучатых ласк и «прочих способов приятного времяпрепровождения» – мелодекламировало и сослагалось в благозвучные гаммы.
«Писать! – зазнобило меня.– Писать! Проволочки губительны».
Перо, которым я сочинял тогда, было вечным. Я дорожил им и соблюдал все инструкции. Пользуясь поршневым наборным устройством, я регулярно и тщательно промывал капилляры пишущего узла водою комнатной температуры. Я никогда не эксплуатировал сей прибор возле пара и ртути, едких газов и щелочей. И ни разу – клянусь Вам честью! – не оставлял его у источника сильного излученья тепла.
Я отвинтил золотой колпачок, отвернул пластмассовый корпус. Затем, вращая рифленую гайку, набрал чернил и обнаружил себя в довольно растрепанных чувствах.
По причинам, которые если и будут изложены, то потом, жанр эпистолы до известной поры не манил меня совершенно. И если я редко писал в каком-нибудь жанре – так только в этом. И вот результат. Перед листом почтовой бумаги с грифом «секретно» и с водяным, потаенным оттиском «Дом Массажа Правительства имени Л. П. Берия» внучатый племянник последнего держится первоклассником. Не то чтобы нормы хорошего корреспондентского тона ему незнакомы: нет, он достаточно сведущ в них. Скорее, они ему просто претят. Положение усугубляется тем, что эпистола долженствует убыть во вне, в Зарубежье.
Безликая вереница наставников, гувернеров, бонн, призванных оттуда на частных началах к моему воспитанию, давно миновала. Но перед тем, как слиться вдали в типизированный образ ментора-эсперантиста среднего рода единственного числа, взятого в нуднейшем из падежей – винительном, эти модальные существа сумели придать воспитаннику известный лоск и подвигли к познанию целого ряда наречий, из коих и предстояло выбрать: на коем же изъясняться.