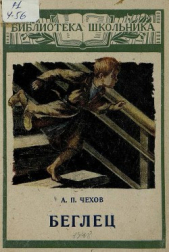Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)

Одарю тебя трижды (Одеяние Первое) читать книгу онлайн
Роман известного грузинского прозаика Г. Дочанашвили — произведение многоплановое, его можно определить как социально-философский роман. Автор проводит своего молодого героя через три социальные формации: общество, где правит беспечное меньшинство, занятое лишь собственными удовольствиями; мрачное тоталитарное государство, напоминающее времена инквизиции, и, наконец, сообщество простых тружеников, отстаивающих свою свободу в героической борьбе. Однако пересказ сюжета, достаточно острого и умело выстроенного, не дает представления о романе, поднимающем важнейшие философские вопросы, заставляющие читателя размышлять о том, что есть счастье, что есть радость и какова цена человеческой жизни, и что питает творчество, и о многом-многом другом.
В конце 19 века в Бразилии произошла странная и трагическая история. Странствующий проповедник Антонио Консельейро решил, что с падением монархии и установлением республики в Бразилии наступило царство Антихриста, и вместе с несколькими сотнями нищих и полудиких адептов поселился в заброшенной деревне Канудос. Они создали своеобразный кооператив, обобществив средства производства: землю, хозяйственные постройки, скот.
За два года существования общины в Канудос были посланы три карательные экспедиции, одна мощнее другой. Повстанцы оборонялись примитивнейшим оружием — и оборонялись немыслимо долго. Лишь после полуторагодовой осады, которую вела восьмитысячная, хорошо вооруженная армия под командованием самого военного министра, Канудос пал и был стерт с лица земли, а все уцелевшие его защитники — зверски умерщвлены.
Этот сюжет стал основой замечательного романа Гурама Дочанашвили. "Дo рассвета продолжалась эта беспощадная, упрямая охота хмурых канудосцев на ошалевших каморрцев. В отчаянии искали укрытия непривычные к темноте солдаты, но за каждым деревом, стиснув зубы, вцепившись в мачете, стоял вакейро..." "Облачение первое" — это одновременно авантюрный роман, антиутопия и по-новому прочитанная притча о блудном сыне, одно из лучших произведений, созданных во второй половине XX века на территории СССР.
Герой его, Доменико, переживает горестные и радостные события, испытывает большую любовь, осознает силу добра и зла и в общении с восставшими против угнетателей пастухами-вакейро постигает великую истину — смысл жизни в борьбе за свободу и равенство людей.
Отличный роман великолепного писателя. Написан в стиле магического реализма и близок по духу к латиноамериканскому роману. Сплав утопии-антиутопии, а в целом — о поиске человеком места в этой жизни и что истинная цена свободы, увы, смерть. Очень своеобразен авторский стиль изложения, который переводчику удалось сохранить. Роман можно раздёргать на цитаты.
К сожалению, более поздние произведения Гурама Дочанашвили у нас так и не переведены.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На обезлюдевшие сертаны бесстрастно, безразлично, праздно лил дождь.
В загонах, нехотя пережевывая жвачку, понуро стояла промокшая, исполосованная струями скотина, лохматились гнетуще нависшие тучи, в листве векового дуба приятно удивлялся внезапным сумеркам филин, а ютившийся в дупле одноногий бесенок Саси, хоть и вдоволь было у него теперь молока — столько коров осталось без присмотра, — тоскливо взирал на орошаемые дождем сертаны, где не носились больше на быстрых скакунах ловкие пастухи. Дождь лил на сертаны, странно, равнодушно, мелкие капли полосовали влажно набухший воздух. Под деревом на выпиравших из земли корнях печально сидели три вакейро. В хижинах не светилась лучина, не вился над ними прозрачный дымок; капли лениво шевелили потемневшие листья. Все было отмечено тоской и горечью, и только земля, верная земля, возвращавшая все сторицею, невозмутимо делала свое великое дело — вбирала влагу для трав, цветов, деревьев и, живительная, раздобревшая, признательно шуршала; и все же сейчас, брошенная людьми, даже она, даже сама земля, мрачно раскисла местами. У хижины Зе Морейры валялась позабытая малышами игрушка — заляпанная слякотью деревянная овечка, а во дворе Мануэло, под изгородью, — шелковый платочек — подарок одной из его женщин, бесполезный, орошаясь дождем, как слезами, а сам веселый вакейро растерянно стоял у небольшого холма, скрывавшего желанный Канудос, в котором пока что было всего десять белоглинных домов, и смотрел на угрюмца Жоао, вооруженного гусиным пером, уткнувшего нос в разложенную на коленке бумагу.
— Это же я, дядюшка Жоао, не узнаешь?
— Никакой я тебе не дядюшка! Имя и фамилия?
— Разыгрываете, дядюшка Жоао? Неужто не узнаешь? — И веселый вакейро невольно поморщился — заходившее солнце светило в глаза.
— Делать мне больше нечего — дурачиться с тобой! — сердито бросил перо Жоао. — Тут не пройдут твои шуточки. Считайся со здешним порядком...
И Мануэло оробело опустил голову.
— Не терпится увидеть город.
— Отвечай тогда, раз не терпится... — И гордо добавил: — Рядом он, наш город, перейдем холм и...
— А что отвечать?..
— Как имя и фамилия?
— Мануэло Коста, — и веселый пастух подмигнул кому-то неприметно.
— Лет сколько?
— Двадцать семь.
— Откуда идешь?
— Из Калабрии.
— Дурачишься! — снова вскипел Жоао. — Будто не знаю, кто ты да откуда...
— А чего спрашиваете тогда...
— Таков порядок!
— Из сертан я.
— Что принес с собой?
— Перво-наперво — самого себя, конечно, всего, с головы до пят, всего — с потрохами.
— Опять за свое...
— Трех телок, дядюшка Жоао, и одного буйволенка, моих собственных.
— Не смей называть моего имени!
— Чего сердитесь, я сказал — трех телок и буйволенка.
...Вы здесь ведь, здесь пока... Вот провел вас, прошли мы и каатингу... Не задела вас?.. Чуть царапнула? Пустяки, не обращайте внимания, попробуйте лучше догадаться, почему Мануэло дурачится тут у холма перед Канудосом... Не угадали?.. Волнуется!.. И еще потому, что понимает — не шутить ему больше, ведь за этим холмом заветный город, обетованный, малый пока еще великий Канудос... И не то что веселый вакейро, даже этот всегда молчаливый Жоао пошутил вдруг — и как он решился! Вот, послушайте.
— А тебя как звать?
— Иносенсио.
— Откуда идешь?
— Из сертан.
— Лет тебе сколько?
— Мне?
— Нет — мне... — передразнил Жоао.
А тот лукаво сказал:
— Вам? Вам, наверно, сорок два — сорок пять.
Жоао смешался.
— Цыц!
Но когда среди других жену с детьми увидел, совсем растерялся, хоть и рад был им несказанно, и старательно чистил кончик гусиного пера, лихорадочно соображая, как быть: не задавать им вопросов — значит, нарушить самим заведенный порядок, а спросить... но какой нормальный спросит жену и детей, как их звать!.. И нашелся:
— Женщины — в сторону.
И впервые порадовался Жоао Абадо тому, что у него только дочки.
Но и великому вакейро не решился задать свои бесполезные вопросы и сам отвечал на них так: «Зе Морейра, да? Тридцать четыре, да?» — и старательно выводил буквы: «Сер-та-нец».
А те три вакейро в сертанах долго тоскливо молчали. Промокшие двууголки небрежно сидели на отяжелевших от дум и сомнений головах. Печально вслушивались в тихий шорох дождя, и когда земля мягко поглотила звуки последних слабых капель, один из них мрачно сказал, вставая:
— Ухожу я!
— Куда?.. — спросил пастух — одно ухо у него было отрублено.
— Не наша эта земля, понимаешь?
— А чья? Я ее обрабатываю.
— Не ты, а жена твоя.
— Не все ли равно...
— Нет, Того. У пастуха нет земли, нет, — резко сказал стоявший. — На траве он живет.
— А чем тебе трава не угодила?
— Корни у нее короткие, вот чем!
— Ну и что, у нас и деревья есть, у них длинные корни...
— Не ты посадил, не ты взрастил их, Того, а капуста с морковкой да петрушка не удержат меня тут.
— А что удержало б, Пруденсио?..
— Признаться, и растения, будь они у нас с глубокими корнями, нами выращенные, но нам даже деревья запретили сажать, чтобы стада их не пострадали, чтоб ничто не отвлекало нас от их скотины. Да черт с ними, с деревьями, сам я лишен тут корней, своих у меня нет, хожу по земле и не чую ее, не могу ступить твердо, потому что — чужая она, не наша, и хоть причиню тебе боль, Того, все равно напомню, как лишился ты уха... Почему и зачем...
Медленно, твердо поднимались сертанцы на холм — один за друг им. Впереди всех — Жоао, довольный собой, уверенно подняв голову. У других от волненья теснило дыханье. Зе Морейра спустил детей наземь — нет, не устал он, сами своими ногами должны были взойти они на холм и с высоты своего роста увидеть заветный город, так желал Зе. За ним следовала бледная Мариам, шел Иносенсио, стиснув пальцами, и Мануэло Коста, серьезный, даже суровый... Ровной цепочкой поднимались сертанцы на холм, а жена Жоао — ах, женская прихоть! — шаловливо шепнула ему, такому вдруг важному: «Не соскучился по мне, пампушка?» В ее-то годы, дочь на выданье! И, возмущенный подобным легкомыслием, он только промычал в ответ что-то невнятно, но шага не сбавил. Взошли на вершину холма, остановились, застыли плечом к плечу, дыша всей грудью, глубоко, в полную силу, все перед собой поглощая глазами.
— Когда сюда, в эти горы, заявились каморцы — трое их было всего — проверить, как пасем их скот, никто им не порадовался, понятно, — начал Пруденсио, — но тебя их приход особенно встревожил, потому что кур держал. Кому они мешали, куры, но нам даже их не позволяли иметь — боялись, как бы скот не лишили ухода, как бы к своей доле приплода не потеряли интереса, если станем кормиться курами. И только ты один ослушался. Но мы не нарушали приказа вовсе не из страха — из самолюбия. Каморцы шныряли между стадами, когда петух твой подал голос, Того... Они даже в лице изменились. По крику его добрались до твоего двора, и тот, что был старшим, деловито спросил: «Чей это двор?» И ты предстал им, злосчастный. Как высокомерно смерил он тебя взглядом, жалкого, оборванного, а какая куртка была на нем, с какими блестящими застежками, серебряными! По его знаку двое других играючи, забавляясь, прирезали кур своими каморскими ножами, а когда покончили с курами, тот, старший, властно протянул руку, и ты сам, сам вложил ему в руку мачете! О, с каким омерзением оттянул он двумя пальцами твое правое ухо, занес нож и — о позор! — срезал твоим же мачете, а я, Пруденсио, стоял рядом! Рядом стояли и другие сертанцы, все схватились за мачете, но сам ты даже не шевельнулся, кровь хлестала, а ты не двигался... Ну ладно, безоружен был, но потом, когда швырнули мачете тебе под ноги, ты ведь не нагнулся взять! Мы ждали, а ты все стоял истуканом! А если б кто-либо из нас занес руку расквитаться за тебя, ты б вконец опозорился... Ладно — ухо, черт с ним, не правда ли, Того? Но ведь по твоей милости в тот час, в тот день, словно всем нам, всем сертанцам, отрезали ухо!.. А сейчас нас призывает город, где каждый сам хозяин себе и господин, почему же не идешь, что тебя удерживает на этой земле? Скажи, что? — И, низко склонившись к брату, шепотом спросил: — Втоптанное в нее ухо?