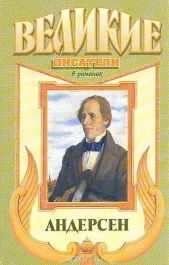Новый Мир ( № 1 2006)
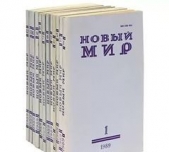
Новый Мир ( № 1 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все это имеет прямое отношение к проблематике рецензируемой книги. Проведя границу между все еще существующей культурой “современности” и повсеместно наступившим “настоящим”, которое, собственно, и оказывается “Другим” по отношению к порожденной романтизмом культуре, мы оказываемся в историческом сюжете, требующем того взаимодействия на границе, без которого наше пребывание в нем становится непродуктивным, непродуцирующим. Жертва самотождественностью при таком взаимодействии необходима, но она приносится вовсе не переходом на чужое поле, не приятием правил “телевизионной реальности”, поскольку жертвующими (и не без принудительности) становятся при пограничном обмене обе стороны. Построенная на компромиссе “акунинская” модель, которую Дубин определяет как соединение стереотипов массовых словесных жанров с “ретростилистикой (традициями „хорошей литературы”)”, здесь не работает.
Постмодерн для России — не выращенная изнутри, а усвоенная реальность, такая же, как христианство, принятое от Византии, или культура, сложившаяся в результате петровских реформ. И каждый исторический акт такого рода усвоения опять-таки требует выработки сюжета, в котором происходит пересечение границ семантического поля.
Оглядывая нынешнее русское культурное пространство, нельзя сказать, что такое пограничное взаимодействие нигде и никем не опробовано. Приведу всего лишь один пример, взятый из литературы последнего десятилетия. Дубин дважды упоминает так называемую “альтернативную” историю, представленную в романах П. Крусанова, но уклоняется от подробного разговора о ней, поставив это явление в общий ряд с творчеством Акунина. На страницах Крусанова разворачиваются эпические по своим масштабам события российского прошлого, поданные со всевозможным вниманием к бытовой и природной среде. Однако это прошлое, убедительно состоявшееся на страницах романа, преподносит читателю какую-то “другую” Россию, не известную ни в каком изводе истории. Зачем нужен такой виртуальный беспредел? Набоков говорил о проникновении в прошлое с контрабандой настоящего. Как кажется, Крусанов совершает как раз такого рода акцию: современный автор, плоть от плоти петербургского “сегодняшнего” дня, совершает вторжение в прошлое, понимая, что груз, пронесенный им через границу, неминуемо изменяет семантическое поле истории. Собственно, здесь реализована та романтическая идея обратимости прошлого, о которой пишет Дубин (см. стр. 22), — но реализована с неведомой романтикам радикальностью. Одновременно преобразуются и манера письма, и традиция русской прозы, причастность к которой (а значит, и самоидентификацию с которой) автор открыто манифестирует, обращаясь к выработанному ею сюжетному фонду (например, сюжет “Бесов”, трансформированный в “Укусе ангела”). И именно такая причастность дает право на жертву идентичностью, на сознательный отказ от некоторых сущностных свойств, формировавших русскую романную традицию. В “Укусе ангела” опробован отказ от морали и гуманизма, но эта жертва (по всей видимости, спровоцированная попыткой противостоять “анонимной” культуре выдвижением альтернативной ей “сильной” личности ницшеанского толка) уже в романе “Бом-бом” отвергнута. Зато со всей решительностью и вполне осознанно принесена в жертву другая ценность “современной” литературной культуры: психологизм. Отказ от него в литературе ХХ века происходит, конечно, не впервые, но показательно, что для приверженцев “классической” традиции психологизм до сих пор является непременной чертой хорошей прозы (таков, в частности, критерий отбора материала, печатаемого в “Звезде”, лучшем в Петербурге толстом журнале). Жертва психологизмом не становится простым минус-приемом, она влечет за собой иное отношение к слову. С ним происходит процесс, отчасти (но лишь отчасти) описанный Дубиным в терминах М. Мак-Люэна и М. Бланшо: слово становится “непереходным”, из коммуникативного средства превращается в сообщение, не описывает, не передает реальность, а само становится ею. По мнению Дубина, этот процесс, у романтиков приведший к семантической автономии поэзии, позднее, в конце ХХ века, будет тиражироваться массмедиа и, в частности, приведет к созданию того телевизионного занавеса, который заменит собою реальность. “Виртуальная” или “альтернативная” история, которую создает Крусанов, могла бы быть понята как тот же самый феномен, если бы слово в его романах не обретало некоторые свойства, неотчуждаемые от словесности и непереводимые на “телевизионный” и какой-либо другой язык. И это касается не одного Крусанова. В Петербурге уже отчетливо заявило себя пишущее поколение, усвоившее и опыт модерна, и опыт постмодерна, но не совпадающее по своим духовным установкам ни с тем, ни с другим (назову здесь еще хотя бы роман В. Назарова “Круги на воде” и книгу А. Секацкого “Моги и их могущества”). Этой генерацией писателей слово воспринимается как плоть деятельная. У Секацкого оно перформативно, у Назарова оно обретает запах, фактуру и вкус, его можно съесть, коснуться губами или вытянуть изо рта. (Вопрос о “влияниях” оставляю сейчас в стороне.) Описанное как “оплотнившаяся” реальность, слово придает достоверную осязаемую трехмерность тому, что в нашей культуре либо неосязаемо, либо лишено физического объема, либо доступно лишь одному из органов чувств: теням, воспоминаниям, воздуху, ветру, молитве, запахам... Близкие примеры можно было бы привести и из прозы Крусанова. И заметим, что все это непередаваемо на “плоском” языке экрана.
Предъявление слова как плоти отсылает нас далеко за границу, отметившую начало романтической эпохи, — к Средневековью. К нему же отсылают нас и сюжеты Крусанова, Секацкого или Назарова, чтобы вернуться к современности с частицами позапрошлой культуры, вдруг оказавшимися вплотную приближенными к нам. Видеть во всем этом только отблеск культуры фэнтези было бы недостаточно, хотя вкус к средневековой атрибутике наблюдается и в массовой культуре. Да и сам феномен анонимности — тоже вполне средневековая черта. Очевидно, имелся в той эпохе некий фермент, зачем-то оказавшийся нужным сегодня. В обращенности к ней можно видеть угрозу темного, “тоталитарного” на свой лад Средневековья. Но, возможно, это — лишь инстинктивное проявление какой-то отнюдь не разрушительной потребности культуры. И те петербургские писатели, о которых идет речь, — лазутчики в прошлое, пересекающие, чтобы выяснить его возможности, не одну лишь верхнюю, но и нижнюю границу “современности”.
Приведенный пример, вероятно, занял чересчур много места в сжатой рецензии, но он был необходим не только как контраргумент, призванный скорректировать представление о тотальной “а-топии”. Та подтвержденная цифрами и фактами убедительность, с какой обрисовано в книге Дубина наше аморфное, бессильное, анонимное, “подопечно” готовое ко всякой чрезвычайности настоящее, неумолимо и настоятельно требует искать хоть какие-то точки опоры, хоть какие-то механизмы продуктивности, отличные от самовоспроизведения анонимной реальности. И кажется, что разговор о границе, поднятый в финале этой книги, позволяет обнаружить по крайней мере один из таких механизмов.
Мария Виролайнен.
С.-Петербург.
1Для автора рецензируемой книги она несомненно явлется “не своей”, то есть “другой”, и таковой же она является для автора этой рецензии, не случайно заказанной одним из толстых журналов, по оценке Дубина, отживших свой век.
2См.: Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970, стр. 282.
Оплакивание родства
Светлана Семенова. Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропониманию.
М., ИМЛИ РАН, 2005, 352 стр.
Критики бывают разные… Иной похож на эстета, получившего письмо и вместо чтения рассматривающего с удовольствием (или неудовольствием) особенности почерка адресанта: “Как хороша эта „А”! А вот эта „М” немного не с тем наклоном”… Я вполне убеждена в полезности в иных случаях почерковедческой экспертизы, но все же, когда человеку пишут письмо, от него ожидают в первую очередь не этого. Есть честно читающие то, что написано, в меру своего понимания и сил, и это “честное чтение” еще Скафтымовым опознано как не просто главная, но единственная задача, на которую и должны быть направлены все усилия истинного литературоведа. Но есть, в очень небольшом числе (мне на ум кроме Светланы Семеновой приходит, пожалуй, только Лена Силард1), критики, способные мимо неизбежных искажений “мысли изреченной” проникнуть к самому существу автора и к смысловому ядру его детища. Чехов удивительно описал похожий тип чтения в своем рассказе “На святках”, где из письма, написанного за деньги для безграмотной старухи матери самодовольным и пошлым братом трактирной хозяйки, заполнившим (и заполонившим) страницы дикой казенной белибердой, дочь ее прочитывает только первые строки, продиктованные матерью, и, остановившись от прервавшегося дыхания там же, где и та, плача и смеясь, рассказывает своему мальчику про деревню, про бабушку, которую он никогда не видел, про дедушку на печке и про собачку желтенькую, про жизнь по-Божески, — не то что сквозь плохой почерк, но сквозь дурные и мертвые чужие слова, мимо их постигая то, что хотела передать ей мать.