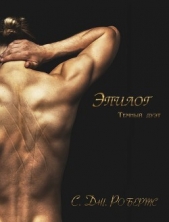Изгнание из ада
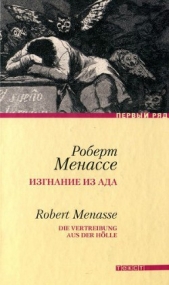
Изгнание из ада читать книгу онлайн
На вечере встречи, посвященном 25-летию окончания школы, собираются бывшие одноклассники и учителя. В зале царит приподнятое настроение, пока герой книги, Виктор, не начинает рассказывать собравшимся о нацистском прошлом педагогов. Разгорается скандал, с этого начинается захватывающее путешествие в глубь истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что ж, — сказал профессор Хёйгенс, — позвольте вручить вам… Осторожно, Тульп! Итак, в этом сосуде находится…
Брат? Что за брат?
— Известь, — спокойно пояснил Тульп. — По моей оценке, на семьдесят с лишним процентов известь!
— Что значит «брат»? О чем вы?
— Известь. Вес — один и восемь десятых килограмма. Весьма значительный. На двести двадцать граммов тяжелее знаменитого венского каменного эмбриона тысяча шестьсот первого года!
Взгляд у Эсфири стал точь-в-точь как у матери, в доброе старое время, в затруднительных обстоятельствах: ледяной, циничный, глаза словно бойницы.
— Вы позволите мне прижать брата к сердцу? — сказала она, забирая у Тульпа сосуд.
— Надо же, именно сегодня, в день погребения ваших родителей… так сказать, третий покойник. Внезапно… третий… покойник! Сожалею. Но взгляните, сколько красоты и, я бы сказал, гениальности Творения даже в неудаче. Вот здесь, например…
— Спасибо, профессор!
При вскрытии в животе матери обнаружился эмбрион. Судя по всему, вскоре после рождения Мане мать снова забеременела, однако беременность оказалась брюшная, в итоге эмбрион омертвел, но не исторгся из организма, а закапсулировался и за многие годы окаменел вследствие известковых и прочих отложений.
Восемь дней после похорон родителей брат и сестра не выходили из дома. Совершали шиву,как того требовал Закон. Сидели втроем: Эсфирь, Манассия, а перед ними окаменелый эмбрион, вынутый из живота матери.
Они вышли из такси на самом верху Хёэнштрассе, где открывается грандиозная панорама Вены. Однако ночь выдалась до странности туманная, мглистая; пока они сидели в «Золотом тельце», видимо, случилась гроза, и теперь летний воздух в городе был пропитан испарениями. Ничего толком не разглядишь, ковер огней словно под папиросной бумагой.
Из ожидающего такси долетала музыка, приглушенная, словно тоже завернутая в бумагу, «Ти Рекс», « Children of the Revolution».Виктор притянул Хильдегунду к себе, она положила голову ему на плечо.
— Знаешь, что самое ужасное? — Виктор.
— Нет. Но ты же мне скажешь!
— Рост!
— Рост? В смысле, ты бы предпочел иметь метр восемьдесят четыре?
— Нет. Я имею в виду закон, принцип роста вообще, понимаешь?
— Нет!
— Я хочу сказать… Смотри: в ту пору у нас не было ничего, только идеи и представления, которые затем, что называется, пошли прахом, а потом мы пытались каким-то образом построить жизнь, без этих идей и мечтаний, какие у нас были и казались нам образцовыми, общепринятыми. Внезапно оказалось, что рассчитывать можно только на себя, на собственные силы, каждый сам по себе, и как раз за это нас непрерывно вознаграждают. Как бы это выразиться…. Может быть… Подумай вот о чем: ты, конечно, верила, что усовершенствуешь мир… погоди! Я не иронизирую! Ты верила, что это очень важно, это придавало смысл всей твоей жизни, отсюда ты черпала признание окружающих, волнения, оптимизм, но, если вдуматься, это была игра в песочнице, ты была счастлива, как ребенок, играющий в парке в песочнице. Ребенок упрямо топает ногой и говорит: я! Черт побери: я! А взрослые поддакивают и ухмыляются: ах, какая прелесть! А после говорят: ну все, хватит! Позднее ты вышла замуж за учителя религии, вдобавок в провинции, стала домашней хозяйкой и матерью. Все в городке тебя знают, воспринимают всерьез, ухаживают за тобой, уважают. Здравствуйте, госпожа профессорша, здравствуйте! И все такое…
— Послушай!
— Нет, ты послушай! Рост есть принцип капитализма.
— Да ну? Вот так сюрприз!
— Не надо цинизма! Так или иначе, с тех пор как мы стали членами общества, нас вознаграждают, смехотворно, конечно, по сравнению с тем, сколько гребут подлинные узуфруктуары, но отчасти и нам перепадает от этого роста. Немножко. По капельке. Мы спали на полу, на матраце. Потом купили в «ИКЕА» кровать. А не так давно — так называемую экологическую кровать, без металлических гвоздей и шурупов, с матрацем из натурального латекса, примерно по цене малолитражки.
— Откуда ты знаешь?..
— Просто сделал выводы по аналогии с самим собой! Правда, и эта кровать меня не удовлетворяет, раз в ней нет тебя…
— !!
— Ой! Как бы то ни было, с потолка свисали голые лампочки. Позднее какие-то хорошенькие, недорогие светильники. А теперь дизайнерские люстры. Мы ездили на трамвае зайцем. Теперь у нас годовые проездные билеты плюс машина плюс место в гараже. Ездили в Италию автостопом, потом даже спальным вагоном, а теперь ты летаешь на один-два дня в Рим или Флоренцию за дизайнерскими тряпками. Рост, понимаешь, вот что я имею в виду. Запросы растут, возможности, которыми мы пользуемся все естественнее, растет собственность, понемножку, но все больше. Нас вознаграждают, только я не знаю за что. За то, что мы просто стареем? Нам позволяют отведать роста. Смехотворно!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Да, что я хочу сказать?
— Может, у тебя кризис, раз ты вдруг мечтаешь опять спать на матраце на полу, причем со мной, а на потолке чтоб болталась голая лампочка и проигрыватель играл виниловую пластинку, « Born to Be Wild»…
— Точно!
— Подожди! Это же ужасно романтично! И ты так молод, что спина еще не болит, когда ворочаешься на этом матрасе, и ты так зациклен на мне, что даже не порываешься смотреть новости по телевизору, и весишь на десять, нет, на пятнадцать кило меньше, и утром можешь спать до двенадцати, а если счет за телефон слишком велик, оттого что ты часами уныло клялся мне в любви под предлогом решительной критики сталинизма, или наоборот, то можно просто отдать этот счет отцу. Ты так себе это представляешь? Скажи! Ну же! Если так, то двигаем на матрац! Эй, почему ты молчишь?.. Ладно. Забудь.
— Нет! — И после паузы: — Не забуду!
Норман Гринбаум,«Spirit in the Sky».
— Идем, — сказала Хильдегунда, — сядем в машину. Едем в город. По-моему, тебе нужно выпить кофе!
Виктор не стал героем рабочего класса, но звания «героя труда» он тогда вполне заслуживал. Троцкисты составляли четко организованную, но очень маленькую революционную организацию. Свою малочисленность им приходилось маскировать многообразной и бурной деятельностью, которая вынуждала каждого допоздна метаться по городу. Чуть свет Виктор уже раздавал листовки у ворот какой-нибудь фабрики, это называлось «работа на предприятиях». Потом «университетская работа»: создавать помехи на лекциях, критиковать семинары, проводить собственные. И наконец, «работа солидарности»: во все группировки и общества, обязавшиеся поддерживать международные освободительные движения, троцкисты посылали своих, чтобы и там сделаться авангардом, то бишь превратить их в троцкистские организации, хотят они того или нет. Виктор заседал в Палестинском комитете, не в последнюю очередь потому, что там была и Гундль. У нее он перенял привычку носить зимой вместо шарфа палестинский платок. Солидарность удваивала работу, которой от него и так требовало само членство в троцкистской организации: писать и раздавать листовки, устраивать семинары, продавать информационные брошюры и собирать пожертвования. Зато здесь он уже испытывал ощущение пусть маленькой, но свободы. Он не знал ни как ему относиться к своему еврейскому происхождению, ни что это могло бы для него значить, а ведь был евреем по отцу, который в своей сверхассимиляции хотя и хорошо скрывал, что он еврей, но, когда случилась история с «поганым жидом», влепил Виктору пощечину: не забудь, где твои корни! Как он мог забыть то, чего не знал, и откуда мог знать то, чего ему никто так и не объяснил, не растолковал? После той пощечины Виктор, по сути, вспоминал о том, что его отец еврей, только когда по некой причине ненавидел его или презирал. Человек, который не заботился о нем, сплавил его в интернат. Человек, который даже не дотрагивался до него, если не считать рукопожатия. Человек, которому он никогда не мог угодить, который вечно к нему придирался, человек, стыдившийся его из-за куртки или из-за прически, до такой степени, что готов был от него отречься, — этот человек был его отец, еврей. Гад. Тоже жид поганый. Одновременно он стыдился и прямо-таки ненавидел себя за то, что свое в конечном счете подростковое отмежевание от отца соединял с тупым, атмосферным антисемитизмом, подхваченным в школе и в интернате, из ученических шуточек и учительских реплик. А Палестинский комитет… да, это было настоящее освободительное движение: оно освобождало его от самобичеваний, от ненависти к отцу и к себе. Теперь он прямо-таки гордился отцом. Ему он обязан возможностью намекнуть, что он по происхождению еврей, а это весьма повышало его репутацию. Еврей, но солидарный со справедливой борьбой палестинского народа. Еврей, но не сионист — в комитете это кое-что значило. С ненавистью к себе покончено. С какой стати заниматься самобичеванием, если окружение вдруг встречает его рукоплесканиями?