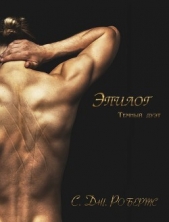Изгнание из ада
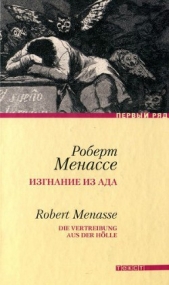
Изгнание из ада читать книгу онлайн
На вечере встречи, посвященном 25-летию окончания школы, собираются бывшие одноклассники и учителя. В зале царит приподнятое настроение, пока герой книги, Виктор, не начинает рассказывать собравшимся о нацистском прошлом педагогов. Разгорается скандал, с этого начинается захватывающее путешествие в глубь истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Монетки представляли собой так называемые дукаты-осьмушки. В банках продавались еще четвертушки, половинки и даже дублоны; выгодный гешефт — нажива на страхе перед будущим у людей, чья история постоянно наводила на мысли о вечном страхе. Виктор любил эти тонкие блестящие монетки, на них, конечно, ничего не купишь, но, по словам деда с бабушкой, они обеспечат спасение, если все вдруг опять переменится. «Лучше иметь золото в кармане, не то ведь изо рта выдерут!»
Часть скопившихся монеток Виктор продал перед английскими каникулами, чтобы, подобно остальным ребятам, иметь достаточно карманных денег на футболки, пластинки и хот-доги.
«Бедные дети-христиане! — говаривал дед на Хануку. — Открывают двадцать четыре окошечка, а внутри ничего, кроме жалкой картинки, и подарки им дарят один-единственный день, а не восемь дней подряд, как тебе!»
В конце года Виктор был весьма доволен своей судьбой. Только в эту пору он верил в возможность щедрого счастья и никому не завидовал. Тем более что и 24 декабря опять-таки получал подарки, «чтобы тоже рассказать в школе про Рождество, чтобы не быть отщепенцем!» (Отец.)
Почему он так и не смог обнять бабушку? Почему лишь молча пожал ей руку, как посторонний, бормочущий искренние соболезнования?
Когда они расселись по скамьям и, перед тем как гроб с дедом опустился в огненную пещеру, грянул орган, Виктор спросил у отца:
— Почему дедушку сжигают?
— Прости?
— Почему дедушку сжигают?
Отец с каменным выражением на лице смотрел вперед, поправил шарф, в крематории было холодно. Виктор уже перестал ждать ответа, но тут отец сказал:
— Потому что он двадцать пять с лишним лет платил взносы!
— Какие взносы? За что?
— За огонь. Больше четверти века он платил взносы в общество «Огонь». Это вроде похоронной страховки. Все заранее обеспечено. Он так хотел, и нам не пришлось платить ни гроша!
— Папа, послушай! Как можно допустить, после всего, что было, после костров инквизиции и печей Освенцима, чтобы еврея…
— Помолчи, пожалуйста!
— …сожгли?
— Позже поговорим. И о твоих исторических штудиях тоже.
— Но, папа, ты должен…
— Тсс! Хоронят твоего деда! Раз уж ты не горюешь, то хотя бы изобрази скорбь, чинно-благородно, а не болтай не закрывая рта! Ни слова больше!
Кладбище Бет-Хаим быстро разрасталось.
— Нам это просто позарез необходимо, — говорил Ариэль Фонсека, — кладбище, которое станет средоточием жизни. Ужас. Комедия? Или трагедия?
Старики, основатели Нового Иерусалима, словно только того и ждали: теперь есть Святая земля, можно наконец-то воротиться домой. Смертность в еврейском квартале Амстердама никогда ни до, ни после не была столь высока, как в первые два года после освящения Бет-Хаим. И умирали не одни старики. Вдобавок весь liberdadeзахлестнула волна самоубийств. Люди, не сумевшие превозмочь выстраданное, оказавшиеся неспособными через многие годы после освобождения выдержать пережитое, изломанные переменой личности, люди, которые охотно остались бы христианами, но, ставши евреями, не смогли научиться быть евреями, как их предки, — эти люди воздвигали на Бет-Хаим камень за камнем. Евреи выбрасывались из окон, откуда прежде ночами кричал их страх и ужас. Иные вступали в стрелковую гильдию, созданную для защиты жизни и имущества граждан, и, получив положенный члену гильдии мушкет, стрелялись. Даже в ритуальной бане горячая вода в деревянных чанах и каменных ваннах снова и снова краснела от крови вскрытых вен. То был величайший кризис свободной еврейской общины Амстердама с тех времен, как она получила разрешение здесь поселиться и обрела гражданские права. Камень за камнем воздвигали на Бет-Хаим, на кладбище бурлили жизнь и суматоха, как в центре самого еврейского квартала. Умерших естественной смертью хоронили тем паче при большом стечении скорбящих и с пышностью, ничуть не уступавшей лучшим образцам испанского великолепия, в богато изукрашенных дубовых гробах — сколько бы ни стоили доски, — под каменными надгробиями, далеко превосходившими красотой и изысканностью прославленные работы каменотесов Гранады и Лиссабона, Эворы и Комесуша. Казалось, эти надгробия высечены не из камня, а искусно вылеплены из клубов тумана и облаков, из легчайших пушинок фантазии и податливых сновидений и лишь затем божественным дыханием обращены в камень, будто идеи и жизнеощущение, вера, страх, тоска, мимолетное веяние человеческой жизни могли с последним вздохом на веки веков сгуститься в твердый гладкий мрамор. На этих плитах был изображен бородатый Бог, восседающий на облачных башнях, взирающий на землю, дарующий и отнимающий жизнь, или Бог с косой, жнущий ниву жизни, око Господне, священным светом своим оберегающее жизнь человеческую, поднятую к Богу, дабы ликовать во веки веков, сонмы ангелов, что стоят на страже, горюют, утешают близких покойника, а равно плачущие и молящиеся ангелочки. В синагоге твердили о запрете изображений, на кладбище о нем забывали. Раввины метали громы и молнии, родня покойного словно и не слышала. Такие надгробия ставили в Кордове и Лиссабоне, такими они будут и здесь, только еще роскошнее, еще богаче, еще изукрашеннее, — замковые камни жизни, которая все ж таки добилась свободы и богатства. Здесь усопшие могли стать теми, кем стремились стать, живя в Иберии: благородными господами, идальго, parnassimos senhores.
Гробовщик Ицхак Леви Сикс и каменотес Иосиф Биккер заработали в эту пору такой капитал, что, когда волна самоубийств улеглась, смогли стать пайщиками крупнейших торговых компаний. Сикс вдобавок купил «Курант», самую большую газету Голландии и всего тогдашнего мира. При поддержке означенной газеты сын Ицхака в конце концов станет бургомистром Амстердама, как затем и внук Иосифа Биккера, который не только резец в своих жирных пальцах держать не мог, но и перо, чтоб подписывать собственные указы.
Официальное отправление католических обрядов в Амстердаме было под запретом, но тайные местные католики и приезжие регулярно посещали Бет-Хаим, им нравилось это еврейское кладбище, изобилующее изображениями Бога Отца и ангелов, изобилующее ангелочками и святыми — так было на самых красивых на свете католических кладбищах в Гранаде, Лиссабоне или Риме, так и даже еще краше было здесь, на Бет-Хаим; здесь католики находили роскошнейший образный мир, запретный для них в средоточии протестантизма, здесь они отыскивали себе опору для жизни, для своего «я», оазис жизнеощущения, которое в этом городе им приходилось скрывать. В свободном Амстердаме изгнанники-евреи наслаждались привезенным с собою католицизмом, тогда как голландские католики стали маранами наоборот, псевдоевреями на еврейском кладбище, чтобы втайне прожить хотя бы частицу своего тождества. И на Званенбюрхвал в центре города, и на Бет-Хаим евреи ходили в escarpins,в шелковых чулках и башмаках с пряжками, как испанские дворяне, так было в Гранаде, так было в Лиссабоне, так должно быть и здесь. Чиновники еврейской общины носили плоские, твердые иезуитские шляпы с изогнутыми полями, так должно быть, тем более здесь, а служители храма появлялись на людях исключительно в замечательных треуголках, как в Испании члены Guardia Real.Руби, школьный учитель, носил бархатный берет, как школяр из Сарагосы. Торговцы и коммерсанты не выходили из дома без высоких сапог и богато украшенных шпаг, какие носили кастильские идальго, если, конечно, все осталось по-прежнему, а сам рабби Шушан любил надевать митру, в сравнении с которой головной убор его высокопреосвященства епископа Эворы показался бы убогой шапчонкой. А Бет-Хаим, еврейское кладбище, стало главной достопримечательностью, центром запретной католической жизни, где католики наслаждались своим образным миром, а чтобы не привлекать внимания, клали на могилы камешки, как того требовал еврейский обычай.
Ночь после смерти матери Манассия и Эсфирь провели без сна у одра усопшей. Манассия избегал смотреть на сестру. Вид ее смущал его и причинял боль. Он облегченно вздохнул, когда свечи догорели и погасли. Ни он сам, ни Эсфирь не делали поползновений зажечь новые. Однако в темноте, недостаточно густой, чтобы поглотить все вокруг, Манассии сделалось вовсе не по себе: мать на постели, рядом на скамеечке сестра. Казалось, женщина одна и та же — во-первых, безжизненная, бренная оболочка, во-вторых, живая, сидящая у постели и оплакивающая сама себя. У него не было слез. Выплакал все без остатка еще тогда, сразу по приезде в Амстердам. Смертная тоска щемила сердце, а поскольку слез не было, он комкал подушку матери, прижимался к ней лицом, мусолил ее. То наклонялся, то откидывался назад, раскачивался туда-сюда и мусолил материну подушку! Как она могла спать на ней, находить покой на всех этих углах и ребрах? Мать зашила в подушку первые вещицы своих детей — мелкие игрушки, первые поделки Эсфири и Мане, их соски и погремушки, первые тряпичные куклы, первые ложки. Первую связанную крючком салфеточку Эсфири и первые гвозди, забитые Мане в верстак и выдернутые отцом. Как она могла на всем этом спать? От чего и почему она отказалась ради того, чтобы захватить в Голландию эту подушку? Манассия обслюнявил всю подушку, прижимался к ней щекой, комкал, пытался нащупать, что там внутри, и при каждом движении руки в его качающейся голове возникала давняя картина, из тогдашней, умершей жизни.