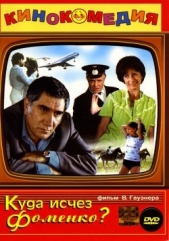Старая проза (1969-1991 гг.)

Старая проза (1969-1991 гг.) читать книгу онлайн
Феликс Ветров
Дорогие друзья!
Буду рад, если благодаря порталу Proza.ru мои вещи найдут своего читателя на страницах Интернета. Также буду сердечно рад получить читательские отзывы на них. Пишите, пожалуйста.
Несколько слов о себе: родился в Москве в 1947 году. По первой специальности — художник-график. Много работал как иллюстратор в разных изданиях: оформлял журналы, книги. После Московского художественного училища «Памяти 1905 года» окончил Литературный институт имени Горького, отделение прозы. Работал в такси, на нескольких заводах, в разных учреждениях и редакциях. Чем только не приходилось заниматься, чтоб добыть копейку: рисовал, писал радужные лозунги социализма, расписывал стены, фотографировал, много преподавал, пересчитывал говяжьи туши и консервные банки, сторожил гардеробный трест, выпускал как литредактор компьютерный журнал… Впервые опубликовал свою прозу в журнале «Смена» в 1970 году. Затем в журналах «Юность», «Литературная учеба» и других изданиях увидели свет несколько повестей и рассказы. Почему-то довольно много шуму наделала в свое время небольшая повесть «Сигма-Эф» в «Юности» (№ 1/1974), затем она неоднократно переиздавалась в родном Отечестве, в ГДР на немецком и даже в КНР на китайском — как яркий пример ревизионизма и «хрущевизма без Хрущева». Первая книга «Картошка в натюрморте» вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1982 году. Как в штате, так и внештатно много работал как редактор, литературный и художественный критик. Свыше 15 лет внештатно (в штат на ТВ не брали) писал телевизионные сценарии больших игровых передач на темы культуры и зарубежной литературы, по истории русской науки, а также известной детской образовательной передачи «АБВГДейка». Все они множество раз были в эфире в период 1979–1996 гг. С 1990 года выступал как автор статей, эссе и литературных рецензий в ряде крупных христианских изданий и светских газет («Независимая газета», «Накануне», «Русская мысль», «Россия» и др.). Автор сценария 5-серийного телевизионного фильма (1994) «От Рождества до Пасхи», который также многократно шел в эфире.
В настоящее время опубликовано семь книг: проза, публицистика, эссе и размышления христианина.
Произведения переведены на 10 языков и опубликованы в Венгрии, Германии, Греции, США и др.
Член Союза писателей Москвы.
С 1998 года живу в Германии, в Нижней Саксонии.
ICQ: 238170414
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Погасив свет и тихо раздевшись, в сосредоточении всех сил и чувств постояв минуту у окна, я шагнул к ней.
— Я иду… — сказал я тихо и глухо. Но ответа не услышал.
Я отбросил край одеяла а прилег рядом, осторожно протянул руки и коснулся ее плеча. И словно волна ледяного тока пробила насквозь и свела судорогой неподвижности ее тело. Такого не бывало у нас прежде. И, не зная как быть, я сильней и горячей прильнул к ней, привлек и прижался, чувствуя как часто и сильно сотрясает нас обоих мое бешено стучащее сердце.
Она отвернулась, пытаясь высвободиться… Я попытаются повернуть ее к себе. Ласково, но властно и непреклонно она отвела мои руки.
— Послушай… — прошептал я срывающимся хриплым голосом.
— Я… прошу тебя… очень… — не оборачиваясь, сдавленно тусклым умоляющим шепотом с трудом выговорила она. — Я… хочу спать.
Эта… вечная, классическая во все времена фраза отказывающей в любви женщины словно вмиг парализовала и меня тем же жгуче-ледяным током. Я отпустил её, отделился… бережнейше отклонился. Незнакомая, стылая боль и горечь окатили меня и неспешно поползли от макушки — по груди, спине… к ногам… обволокли всего и словно погрузили в мертвую воду.
— Да-да… конечно… спи, — пробормотал я печальным откликом и замолчал, опустошенно и слепо глядя, ничего не понимая, в потолок, и какие-то смутные тени скользили там, и вихрились, свивались серыми спиралями в темноте… и я не мог понять — то ли и вправду там вершится запредельная бесовская кутерьма, — то ли эти мглистые фантомы мятутся и борются в моем мозгу…
— Знаешь… — начал я было… еще сам не зная, что хочу сказать ей, но вдруг оборвал себя на полуслове чего-то мучительно устыдившись… То ли ненужного ей порыва страсти, то ли ненужных слов.
Она не отозвалась. Она… как бы спала, но я чувствовал как натянута она вся в этом решительном, холодно-непреклонном противлении мне.
Обида?… Разочарование?.. Что нахлынуло на меня — сдавило грудь, стиснуло виски?..
Лежать вот так, рядом, было невозможно.
Я встал и босиком подошел к окну. Отодвинул штору и уставился в отчужденный безразличный мир.
Синий мрак, а в нем — темные дома, дрожащие огоньки, трубы, от которых поднимались светлые дымы — все там было и существовало как бы отвлеченно и отстраненно от нас, в полнейшем равнодушии к нам.
Утраченное… потерянное вдруг, минуты назад — казалось уже недосягаемым… несбыточным и невозможным — стремление всюду и во всем быть вместе, неразделимыми… чтобы раскрыть окно и слушать, обнявшись, ночные звуки: фурканье малорослой длинногривой лошадки во дворе гостиницы, манящие в дальнюю даль тревожные гуды и перестук железной дороги…
Я приоткрыл форточку. С улицы пахнуло мокрым сеном, углем, студеной свежестью. Я стоял, вдыхал эти запахи морозной зимней ночи словно просыпаясь и трезвея.
Я подошел к постели. Теперь она и правда спала, и брови ее были нахмурены. Что снилось ей и отчего так тревожно смотрела она внутрь себя закрытыми глазами?..
Осторожно, боясь прикоснуться к ней, я прилег рядом, слушая тишину… какие-то скрипы, шорохи… ее дыхание.
Рассвет мы проспали и вышли из гостиницы, когда город под солнцем уже сверкал снегом. В это субботнее утро еще почти никого не было на улицах, и это безлюдье было нужно нам.
Солнце пронизывало негреющим светом дымный от стужи воздух, играло в окнах низких домов, в старинных, писаных уставным шрифтом — разве что без твердых знаков и ятей — вывесках.
Улицы поднимались по крутым холмам, скатывались в долину реки, угадывавшейся голыми заиндевелыми ракитами по берегам, и дома и домишки, строеньица и хибарки громоздились уступами крыш, а над ними высился шпиль колокольни.
Успенский собор стоял, вознесясь и подчиняя себе город, устремясь к небу своими круглыми, светло-златыми главами, и белая мощь его стен, темные барабаны под куполами и простые кресты — все звенело суровой музыкой древности. А на площади перед собором с каменной серой глыбы смотрел на далекие Золотые Ворота черный, в заснеженном шлеме, Александр Невский…
Я вглядывался в лепные украшения домов, в каменных бородатых львов, выступавших из стен, и хотя все это было так знакомо по Москве, Питеру, Одессе — я удивлялся им, будто никогда не видел подобного, и во всем искал и находил свою, едва приметную особенность… Все в этом городе казалось присущих только ему: и праздничное, ярмарочное многоцветье стен, и театральная уютность улиц, и ясные лица редких прохожих. Люди эти казались иными — они должны были быть совсем не такие, как москвичи, в их городе жизнь двигалась в неспешном ритме иного измерения, и им наверняка должно было хватать времени, чтобы сосредоточиться и додумать то, на что нам — времени не хватало.
Мы уходили куда-то по новым… незнакомым улицам, и минувшая ночь была уже далеко позади, и ледяное солнце как могло старалось отогреть нас, но вошедший в меня спокойный холод не отступал, и уже было как-то пустовато-странно… невесомо-печально и скорбно-прекрасно в этот день рядом с ней.
Тонкая ледяная игла не таяла в сердце, торчала постоянно, и — то ли благодаря этой боли, то ли почему-то ещё, не поддающемуся уразумению, — моя душа, мое сознание и глаза были обостренно пристальны, зорки и приметливо-чутки ко всему вокруг, и я словно мгновенно и безошибочно проникал во всё, прозревая главную изначальную суть.
Я был художником — то есть открыл уже что такое линия и пятно, что такое отношения тонов и цвета, но еще лучше я знал, что не это — главное.
А оно — это то необъяснимое преображение в твоих мыслях, а после — в рисунках, картинах, гравюрах — всякой частицы мира увиденного — в мир понятый и вновь сотворенный тобой и только одним тобой — в мир, присущий лишь одному тебе и воплощенный лишь в тебе свойственной пластике… Быть может в том и была коренная и мучительно тяжкая задача всякого искусства, и я знал что бывали дни, а подчас и месяцы, когда я не мог и не умел видеть этой пластики претворенного мира.
Но в этот день… и я чувствовал — в сосредоточении тайного внутреннего страдания — глаза мои были раскрыты. И в этой радости, рожденной болью, — была своя мудрая, разъедающая душу, истинность жизни.
Целый день мы бродили по Владимиру, слонялись по уличкам и проулкам, заходили в музеи, покупали книжки, сувениры, гостинцы московским друзьям… я любовался ею — высокой, с длинными стройными ногами в черных сапожках на каблуках, мы обменивались какими-то легкими необязательными словами… день пролетел и уже под вечер — будто ничем не связанные друг с другом кроме этого города — пошли в Успенский смотреть фрески Рублева.
Кончался день и солнце былинным малиновым диском уходило за собор, и он рисовался четким синим силуэтом на фоне светящегося неба.
Мощеная широкими каменными квадратами присоборная площадь стыла обратившейся льдом водой, и не один раз мы упали на этой скольжине, пока подошли к пустой паперти.
Миновали дряхлых старух, толпившихся у входа, — и голова закрутилась от темной бездонности, беспредельности соборного пространства, от густого, веками настоянного запаха ладана и кадильного дыма. Пахло и еще чем-то… но таким древним, далеким и забытым, что и понять нельзя было — что источает этот запах. Может быть, то пахло самой вечностью.
В тумане коричневатой мглы искрились огоньки лампад у образов — красных, зеленых, желтых и звучал, гулко разносясь по собору, высокий, надтреснутый голос дьячка. Он невнятной скороговоркой читал по требнику, время от времени поправляя сползавшие очки. Недвижимо, как колонна, замер пред Царскими вратами, оборотясь спиной к приходу, священник в черном будничном облачении. Тоненько тянули «Господи, помилуй…» старушечьи голоса.
Мы стояли пред алтарем, не венчанные супруги, как бы в неловком смущении своего чуждого бездействия среди пришедших на молитву… И словно рука моя отяжелела и не было силы поднять ее, чтоб осенить себя крестом.
Но вдруг… что-то сместилось в душе, стронулось и прояснилось, и я, словно наученный кем-то, внезапно обратил просящий взгляд к сияющему вечному Лику в райской глубине алтаря… безмолвно шепча про себя таинственные древние глаголы о помиловании и спасении наших душ…