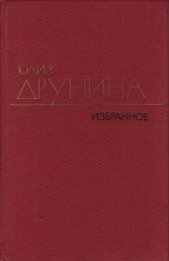Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е

Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е читать книгу онлайн
Вторая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. Освобождение от «ценностей» советского общества формировало особую авторскую позицию: обращение к ценностям, репрессированным официальной культурой и в нравственной, и в эстетической сферах. В уникальных для литературы 1970-х гг. текстах отражен художественный опыт выживания в пустоте.
Автор концепции издания — Б. И. Иванов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Никто не знает, я даже маме не рассказала.
Он забыл! И даже не притворился, что помнит. Я ждала его и знала, наизусть выучила, что скажу: «Здравствуй, Клаус, это я тебя таскала за волосы!» — «Ах ты злючка, и сейчас хочешь? Ладно, не назад же по грязи топать, тяни!» — берет сдернул и наклонился. А я шагу не могу сделать: на полу цветы, он всю охапку бросил, сирень, розы… Это совсем не то, я знаю, его и накануне цветами на концерте засыпали, но он же мне принес, значит, можно мне пока думать, что это мне, правда? «А ты на урок опоздал — попало тебе?» Он свистнул. «Ой, Клаус, ты свистишь как в школе!» — «Не велишь — не буду больше». Перешагнул через цветы и стоит теперь близко-близко… Пуговица! Я тихонько тронула отвороты плаща — расстегнуть. «А помнишь, Клаус, ты дал подножку директору?» Он фыркнул: «Я-то забыл, а он в мемуарах написал! Какого это кретина тогда приветствовали?» — «Не знаю, только директор сам сочинил стихи, мы их декламировали, а он пятился вдоль нашего строя, чтоб спиной не поворачиваться. И как допятился до тебя, ты выставил ногу…» — «Да, я всегда с краю стоял». — «Клаус, а у меня фотография есть — сняли тогда, всем на память подарили, смотри!»
Сейчас покажу вам.
Она вышла в спальню; Марта подобралась ко мне и зашептала, оглядываясь на дверь:
— Вот трещит-то, а ведь молчала. Наутро давай я ее стыдить: уж коли, говорю, приспичило, как кошке, так прежде свадьбу надо. А я еще, говорит, сперва десяток детей нарожаю. Иду я в спальню, сдергиваю простыню и сую ей под нос: вот это, говорю, родителям невесты утром отвозят, а родителей нет — во дворе вывешивают, чтобы все знали, что девушка честная была. Я же и была честная, говорит. Отдай в стирку. А почему, Марта, он удивился и прощенья просил? Ну, говорю, никто не видал, не слыхал, счастье твое, а выходи-ка поскорей за господина бургомистра. И с рук долой, надоела ты мне! И ты, сударь мой, хорош. Ведь в рот глядела, сама в руки давалась, а теперь вон какая стала. Может, и обойдется еще, известно, девушка тому не прощает, кто ее первый испортил да сбежал, — а ты обходительный, у нее зла на тебя не будет, слышь, тебе же лучше. Ну, на другой, на третий день забегала она, что мышь, то к балкону, то к двери. Эх, кошчонку паршивую и ту пожалеешь, а тут ведь своя кровь, дочка ведь она сестры моей покойницы, да не говорила я никому: не много чести от такой тетки… Пошла я в город, на базаре потолкалась, послушала. Вот, говорю ей, болеет он, простудился, обожди… Вскочила, давай умываться, волосы прибирать, физию свою зареванную в зеркале разглядывает, нос пудрит. Ах, вот ты как, говорю, подстилка несчастная, бегать за ним хочешь? Сейчас на ключ тебя, и господина бургомистра вызову! Не зови, кричит, останусь, только его не зови! Тебя то есть. А сегодня, гляжу, пошла это она на кухню и в столе роется, где ножи…
— Вот смотрите: это он, а тут, где маленькие, я стою — не разглядеть почти…
Фотография плохая, мутная. В самом деле, ее не узнать, а он стоит с краю полусрезанный (совсем бы), худое нахальное мальчишеское лицо, резкий выступ носа. Он не таков в ее пересказе, но интонации его звучат в ее голосе.
— А это директор. «Затылком, бедняга, стукнулся…» — «Там песок был, нечего жалеть, он же тебя из школы выгнал!»
«Наверно, не так за подножку, как за свист». — «Да, верно, ты сунул руки в карманы и засвистел в лицо им обоим — директору и тому толстяку в мундире — он поближе подошел узнать, что случилось!» — «Клаус, а вот учительница пения. Как она, наверно, горевала о тебе!» — «Старуха позвала меня к себе домой, достала из какого-то допотопного источенного сундука флейту и отдала мне: бери, свистун, и уезжай отсюда в большой город. Учись! Ты будешь музыкантом. Это старинная флейта, хорошая флейта, на ней нельзя играть плохо!» — «Вот эта самая?!» «Нет, та через год сгорела в Гамбурге — вместе с домом, и все наше барахло сгорело. Ничего-то тогда у нас с матерью не осталось — не в этом их хилом переносном смысле, а в самом деле ничего…» — «И как же?» — «Да так. Пел где придется, пока лягушкой на заквакал — мутация. Вот тогда свист пригодился: птиц приманивать. А помнишь, старуха речи говорила на школьных концертах? Все ждут, когда хор запоет, а она снимает пенсне и трет платочком: „Прошу меня извинить, безумно сложная ситуация. Бетховен и Шиллер говорят — обнимитесь, миллионы, а вы можете представить, как они обнимутся? Вот здесь дети разного возраста, родители да еще мы, учителя. Обняться с чужим, юному обнять старого — а если ему противно? Любовь — это один плюс один, а как быть миллионам?.. Ну, а теперь, дети, споем“. И поднимает руки. В зале жара, духота, всю эту жирную публику развезло, осовели… Когда меня выгнали, она матери денег дала, наговорила ей чего-то, так что мать меня на время даже лупить перестала…» — «И ты совсем, совсем не помнишь меня, Клаус?» — «Ладно, малыш, не тяни кота за хвост… ну и кот у тебя! Чего только не плел мне утром: жертвы, искупления… Наверно, сейчас где-нибудь внизу бродит». Не знаю: кот давно спал в кухне на подстилке. Ночь, темно, поздно… Что же это было? А, вы меня учили: чтобы получалось — упражняйся, искусство постигай постепенно, день за днем, час за часом… Вон они, часы, — ваш подарок, все здесь ваше. Ну нет, ему время дорого, и дела-то всего на две минуты. Отлично получается! С первого раза! Он заснул так неудобно, головой на альбоме с фотографиями. Спи, милый, я тебе песенку спою… А ушел рано утром, когда я спала. А я бы его сама разбудила, каждое бы утро сама будила, балкон открою, солнце в лицо, вставай, Клаус, кофе убежит! Вставай, принц Клаус, вот твоя корона! Это вы мне читали Шекспира — он в высылке, а мухи полноправны? И ты сказал, что высылка — не смерть. Ты б отравил меня или зарезал, чем этим пустословьем заниматься, и еще там что-то, много, не помню, — ну, если б он столько говорил, никогда б до дела не дошло. А у нас дойдет! Лучше б вы меня на рояле учили, тогда бы я с ним играла, а не эта толстая зануда. Уходите! Уходите скорее!
Марта сбежала за мной по лестнице. Внизу она остановилась у фонаря, не различая меня в темноте.
— Я здесь, Марта, за деревом.
— Ну, слава богу, дождь перестал…
— Марта, что это вы говорили о ноже?
— О ноже?.. А, это — говорит она мне: обманули его тут, обидели, он теперь думает — я тоже виновата. А вот в сказке одной написано, что надо кусок мяса из груди вместе с сердцем вырезать и послать, тогда поверит!.. Ну да я не первый день на свете живу. Говорю ей: нож-то поострей надо, а наши давно не точены. Ногой топнула, в спальню ушла. А я ножи припрятала — и к тебе. А ты-то, сударь мой, опять пьян. Что ж, возьмешь ее, что ли? Сам видишь: тот сбежал, едва штаны застегнуть успел. Тебе ведь привозила, а ты, тьфу, ни отец, ни муж. Мне, сударь, за май месяц еще причитается; и будет с меня мороки, не старуха еще. Мне Линц-бакалейщик, вдовец, третьего дня говорит: вы, фрау Марта, совсем еще цветочек! А я ему: и не фрау, а вовсе фрейлейн, а коли встретится человек хороший…
Когда это было?
Не знаю: я больше не считаю годы. Есть только дни, которые не складываются в измеряемые величины; и если в полночь доносятся до меня с башен ратуши глухие удары и шестикратно «соль», я думаю не о времени, но о тщете хоровых финалов «Фиделио» и Девятой. Моя музыкальная шкатулка сломалась, молчит: должно быть, я небрежно упаковал ее, перебираясь в маленький домик на краю города. Но довольно и того, что в зелени липы я угадываю голый осенний скелет, а в обледеневающих ветвях — новое цветение: я не надеюсь и не огорчаюсь. Перемены в Гаммельне не коснулись меня; упоминаю о них из-за былой и почти неправдоподобной причастности к истории.
Ныне правит городом профессор. Вначале, оставшись без дел в опустевшей школе, он обрадовался должности бургомистра как избавлению; когда же подросли малыши и школа вновь открылась, он согласился и с одобрения магистрата сохранил свое место в ратуше: достойного преемника не сыскали.
Обязанный своим возвышением, в сущности, Крысолову, он предпочел тем не менее предать анафеме это имя и всякую память о нем, вроде берета и флейты. Политическое чутье подсказало бывшему директору, что проклятья убедительны лишь в симметрии с благословением: логикою он был приведен к крысам, и незамедлительно нашлось не менее доводов pro [21], нежели было пред тем contra [22]. Новую доктрину не провозглашали официально, слегка стыдясь заграницы; а гаммельнцы обрадовались новой моде и быстро ввели ее в повседневный быт. В кафе подавали паштет à la cryss; местные донжуаны говорили; «Не женюсь и за сто тысяч крыс»; судья через подставных лиц купил подвальчик в переулке и оборудовал литературно-артистическое кабаре под названием «Chez rat» [23]. С вывески призывно помахивал натуральный крысиный хвост. Усерднейшим посетителем «Chez rat» стал директор: он утверждал, что отныне специализируется по психопатологии и наблюдает нравы. Аптекарь тоже частый гость в кабаре. История с Крысоловом пробила брешь в гордом затворничестве этого ученого, бедняга полюбил шум, толкотню, мельканье лиц. Он садится за столик в дальнем углу, а потом его длинная фигура пересекает подвальчик по диагонали и надолго застывает у стойки. Не отрываясь глядит он на крохотную эстраду, где играет джаз-ансамбль, и ждет перерыва, чтобы заказать пирожное, крем или мороженое для пианистки. Та мигом слизывает угощение, хлопает его по плечу — «привет, папаша», — вот вся его награда. Но он терпелив. Пианистка — душа, опора и неограниченная повелительница оркестрика, неизменно веселая и деловитая. Это Бербель, ее преображение шокировало респектабельных гаммельнцев; но она порвала с прежним кругом и кажется довольной. Бедняжке лихо пришлось без покровительства дяди: новый бургомистр, суровый, как Брут, отправил бывшую невестку в тюрьму за подозрительно удачный аккомпанемент Крысолову. Бургомистр впал еще в две-три подобные крайности, вроде латинской брошюры «Pro muribus» [24] или публичной лекции «О роли крыс в истории», где доказывал документально, что крысы предупреждают об опасности на море и на суше не хуже гусей римской породы и что провидение порою избирает их орудием справедливого возмездия: епископ Гаттон и проч. К счастью, такие прискорбные излишества он допускал лишь в самом начале пребывания в должности и скоро обрел подобающее равновесие. Бербель вышла из тюрьмы через полтора месяца — и вышла неузнаваемой. Она бросила ежедневные гаммы и прочное положение в городской музыкальной школе, подобрала партнеров и предалась джазовым импровизациям. Ее крепкая ремесленная выучка, ее неудержимая энергия обеспечили оркестру высокий профессиональный уровень. Толстушка и лакомка, она помолвлена с кондитером «Chez rat», а Бербельбанд пользуется неизменным успехом у завсегдатаев кабаре. Кое-кто даже поговаривает (шепотом), что тут только и услышишь нынче настоящую игру.