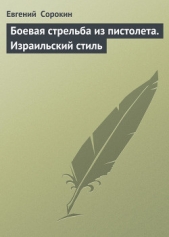Стрельба по бегущему оленю

Стрельба по бегущему оленю читать книгу онлайн
Миллионы с большими нулями, Приговор исполнительного комитета, Нас кто-то предает..., Черная полоса. ...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бородач вдруг рассвирепел.
— Прокисли вы тут, в первопрестольной! Эк, заботы вас, оказывается, какие одолевают! Тьфу!!!
— Ты несправедлив, Родионыч!
— Справедлив! — оборвал его борода. — По одному хотя бы тому, что в Питере, в деревнях что ни день гибнут наши люди. Кровь льется. Красная, понимаете ли, кровь нужных для революции людей! А вы целомудрием своих девок озабочены… Ну, что он, Антон Петрович?
Антон Петрович пожал плечами.
— Успокоился. На углу Кузнецкого и Неглинки он его видел. В два часа. Ошибиться не мог. Полагает, что Рейнштейн убежал от него, потому что… какая-то там у них любовная свара, я толком не разобрался…
Родионыч повернулся к Ждановичу. С изумлением заметил обиду на его лице.
— Вы что, обиделись на мои слова? Плюньте! Давайте лучше подумаем все вместе, где нам искать вашего героя-любовника…
…А тот пребывал в состоянии духа угрюмо-раздраженном. Полулежал в креслах, кое-как прикрыв волосатость тела свою. Сопел — обиженно, утомленно. Глаза закрыты.
В углу рта при дыхании вскипала слюна. Он подбирал ее, раздраженно дергая щекой. Время от времени бубнил что-то под нос, словно выговаривая себе.
Потом зашевелился. Не открывая глаз, пошарил по столу. Потрогал вилку, край тарелки, штоф. Выбрал огурец.
— Эй, мамзель! — огурец ляпнулся в стенку возле кровати. Из-за полога тотчас же высунулась морковно-рыжая голова.
Не открывая глаз, приказал:
— Вылазь! Придумал я. Плясать будешь.
— Это как? — спросила с опаской морковно-рыжая.
— А так… — приоткрыл он веки. — Рупь дам. Да тряпку-то скинь, скинь! Чужих здесь нету.
Вдруг завизжал кабацким голосом:
— Валяй, девка! Валяй шибче! — и принялся, ту-рум-пум-пум, наигрывать «Ах, ты, сукин сын камаринский мужик».
Баба неуверенно стала притоптывать. Подперлась ручкой в бок.
Рейнштейн засмеялся от удовольствия. Еще пуще наигрывал губами да притоптывал: «Ах, ты, сукин сын камаринский мужик! Ты, видать, подлец, к веселию привык!»
Рыжая оборвала вдруг пляс, прыгнула к нему в кресло.
— Не могу плясать этак-то. Несподручно, котик. Если бы в сарафане да под музыку, а нагишом-то — срамно больно. А я плясунья была, угадал, первая в селе.
Он смотрел на нее, болезненно и жалобно сморщившись.
— Рупь-то обещал, давай… — подобрала грудь и несмело ткнула в щеку. — А, ласковый?
«Ласковый» сбросил ее на пол одним движением колен:
— Но-о, стерва! Подожди о рубле-то. Ночь длинна…
Потом, сонно двигая руками, налил с краями стакан, стал совать ей в губы.
— Пей, милашка! Пей, первая на селе плясунья! — и уже свирепел потихоньку от веселья, его охватывающего. — Пей, не то рассержусь!
Вечером, накануне, он сидел у раскрытого окна и глядел в умолкнувший сад. Было тихо. В доме напротив осторожно и мокро звенели посудой. Где-то, уже вовсе далеко, кто-то играл на рояле, — но было тихо…
Мальчик не знал, что там играют Шопена.
Слушал, жадно и птичьи-тревожно подняв лицо, а в открытое окно прямо в лицо ему плыл туман. Туман пахнул зверино, резко. А там — властно, напористо и грозно играли Шопена…
Мальчик тихо дрожал. Он был один. И ему казалось, что он совсем и навсегда один в этом мире. И только — мазурки Шопена, там…
А вокруг — над черной землей — смутными снежными крыльями реял туман. Затаенно и дико чернели огромные ели. И небо, бездонное, старчески-светлое небо растерянно глядело в его ослепленные музыкой глаза.
Долго шли переулками. Наконец вышли к Маросейке. Иванин показал рукой:
— Вон тот четырехэтажный дом. В шестом номере. Я не пойду, извините…
— Не дурите, Иванин! — прикрикнул Родионыч. — Что мы без вас? Она ведь вас любит, вы ее уговорите.
Иванин чихнул и больным голосом сказал:
— Не любит она. Это я — люблю.
— Тем более! — непонятно ответил Родионыч, подхватил под руку, повлек в подъезд.
На звонок вышла кухарка. Ее отстранили, быстро пошли по коридору. Напористо и грозно, шаг в шаг. «Словно к Рейнштейну идем», — подумал Иванин. И вдруг рука его шмыгнула к поясу. Револьвер был на месте.
Ольга встала с дивана. От растерянности уронила вязание. Вспыхнула и, почувствовав румянец, досадливо поджала губку. Необыкновенно хороша она оказалась…
Начались переговоры.
…Иванин смыкал веки, и тотчас же начиналось долгое томительное падение в черноту, от которого обмирало сердце, и холодные мурашки начинали шевелиться в корнях волос. Стягивало кожу на черепе.
С мукой открывал глаза. Непонимающе озирался: где я, что я?
Ах, да… Вот Ольга сидит. Забилась в угол дивана, туго кутается в белый пуховой платок. Переводит серые неприступные глаза свои с одного гостя на другого. Закаменела в упорстве. Только на него одного не глядит.
Журчал разговор. Иванин почти не разбирал слов. Лишь иногда прорывались в сознание отдельные фразы, но смысл их был темен. Он только отмечал: это Ольга сказала… это — бородач… а это Антон Петрович вступил…
Уговаривают они ее, а она не соглашается. Любит она Рейнштейна.
— Не верю, — говорила она и вздрагивала, как от холода, — не верю! Столько лет он в кружках… никто словечка дурного… а теперь вот: провокатор!
Не верю. Но если даже это и правда, не верю в ваше право казнить его за это. Кто вы такие?! По какому праву берете на себя то, что дозволено только Богу?!
Кто-то свистнул потихоньку.
— Да, Богу! Он имеет право. Потому что всеведущ. Потому что справедлив. А вы?! Я видела, что вы сделали с вашим же соратником — я о Гориновиче говорю, о Гориновиче! Я видела его до того, как вы облили его кислотой, и после того! Теперь вы говорите: ошибка. Говорите это ему, Гориновичу, который по вашей воле искалечен, ослеплен. «Ошибка…» Вы твердите о гуманизме, а руки ваши в крови! По одному-единственному подозрению, ничем не подтвержденному, обливать человека кислотой, проламывать ему голову! И после такого вы хотите, чтобы я указала, где искать Рейнштейна?! А потом придете и скажете: ошибка… Обо мне вы подумали?
— Ошибки быть не может, поверьте. И пожалуйста, не обижайтесь, — но вспоминая так случай с Гориновичем, вы повторяете жандармскую аргументацию. Они тоже на допросах тычут его карточкой, стращают: если не скажешь ничего, мы распустим слух, что ты сказал нам все, и вот, гляди, что тебя ожидает!.. Поверьте, Ольга Аркадьевна, этот случай мучает нас гораздо более, нежели вы предполагаете. Прошел год с той поры. И вы прекрасно знаете, что ничего подобного больше не было и, уверяю вас, никогда больше быть не может. Провокаторство же Рейнштейна — это факт установленный, десятикратно проверенный, десятикратно перепроверенный… — это все выговаривал Антон Петрович, усталым, слегка раздраженным голосом.
Ольга же морщилась от того, что ее не могут понять:
— Пусть не ошибка, с Рейнштейном… Пусть чистая правда. Но поймите! Вы вещаете на каждом углу про справедливость, свободу, равенство всех людей, а я не знаю в мире ничего такого, за что можно было бы платить человеческой жизнью! Не знаю! Не верю я, что человек может быть свободным, справедливым, — если состояние это его оплачено чьими-то жизнями, насильно прерванными!
Родионыч поднялся (он порывался уходить уже не раз), яростно запустил пятерню в бороду, с трудом удержался от резкости:
— Очень жаль, что ваши чувства к Рейнштейну мешают…
— Какие чувства? — горестно крикнула Ольга. — Он — подл, он грязен, этот ваш Рейнштейн! — с отвращением задрожала. — И вы думаете, что я его защищаю? Я его ненавижу!
Чуть не плача от жалости, глядел Иванин на свою любимую, которая, уткнувшись лицом в платок, дышала, как обиженный ребенок, — торопливо, горько.
— Уходите вы, ради христа…
Все поднялись.
— …и ты, Сережа, с ними?..