Избранное (Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен)
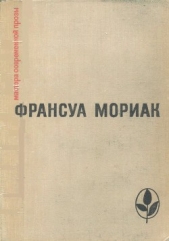
Избранное (Тереза Дескейру. Фарисейка. Мартышка. Подросток былых времен) читать книгу онлайн
В сборник избранной прозы крупнейшего французского писателя, лауреата Нобелевской премии Франсуа Мориака (1885-1970), входят его романы "Тереза Дескейру", "Фарисейка", "Подросток былых времен" и повесть "Мартышка". Мориак исследует тончайшие нюансы человеческой психологии. В центре повествования большинства его произведений - отношения внутри семьи. Жизнь постоянно испытывает героев Мориака на прочность, и мало кто из них с честью выдерживает эти испытания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
До сих пор для меня остается загадкой одно обстоятельство: ведь наша мачеха могла бы найти себе опору и поддержку в лице духовного наставника в это критическое для нее время. Но я не знал, кто именно ее духовник, даже и не очень уверен, что у нее таковой был. Впрочем, как мне кажется, даже в те времена, когда она особенно гордилась своими успехами на пути к совершенствованию и когда никто еще не мог предвидеть, что в один прекрасный день ее будут терзать все фурии больной совести, мачеха исповедовалась гораздо реже, чем можно было этого ждать от особы, столь любящей афишировать свое благочестие. В дни моего детства еще не угас спор о том, как часто полагается ходить к исповеди, спор, начавшийся еще два с половиной века назад. В наши дни верующий католик старается причащаться святых тайн как можно чаще, а сорок лет назад страх и трепет царили в отношениях между христианскими душами и воплощенной любовью, каковая, согласно янсенистской традиции, считалась неумолимой.
Верно одно: в том году, когда начался Великий пост и уже близилась Пасха, страхи Бригитты Пиан переросли в ужас. Как-то вечером она без стука ворвалась ко мне в спальню. Я уже лег и читал роман Фромантена «Доминик» и поднял на непрошеную посетительницу взгляд, затуманенный картинами воображаемого мира, откуда я с трудом вынырнул наружу.
— Еще не спишь? — спросила Бригитта робко и умоляюще.
Она прочла на моем лице выражение досады грубо оторванного от своих грез человека. Другое дело, если бы я еще не лег, тогда я охватил бы голову обеими руками, заткнул бы пальцами уши, склонился бы над книгой — словом, одна моя поза отбила бы охоту вступать со мной в разговор. Но сейчас, лежа под одеялом, я был безоружен.
— Послушай, Луи, я хочу попросить у тебя совета... Возможно, ты удивишься, но в иные минуты как-то перестаешь видеть ясно. Какое, по-твоему, большее из двух зол: нарушить требования церкви и не причащаться на Страстной неделе или же, повинуясь заповеди, будучи недостойной, причаститься?.. Нет-нет, не отвечай так сразу, сначала подумай хорошенько. Вспомни-ка, что сказал апостол Павел о тех, кто не познает тела Христова...
Я ответил, что думать тут особенно нечего и что вопрос решается просто, достаточно покаяться в грехах священнику, чтобы на нас вновь снизошла благодать.
— Для тебя, Луи, дорогой, для чистого сердца ребенка, может, это и так, конечно, так!
Она тяжело опустилась на край моей постели. Уселась, видимо, надолго. Увы, пришлось отказаться от общества «Доминика» и слушать бессвязную болтовню этой стареющей дамы.
— Прежде всего грехи должны быть совсем простые, ясно распознаваемые, четко определенные, так что можно было бы вложить их в четкую формулу. Но как же, по-твоему, я могу растолковать какому-нибудь священнику все то, что меня мучает? Что он поймет из моих отношений с твоим отцом, с Леонсом и Октавией Пюибаро, с господином Калю, с Мишель? Я уже трижды пыталась это сделать — поочередно обращалась к простому священнику, к доминиканцу, к иезуиту. И все трое, представь, решили, что я из числа слишком совестливых грешниц, а исповедники боятся их как чумы и действуют с ними оружием, каковое лишь усугубляет страх, а именно делают вид, что не принимают всерьез их самобичеваний. Таким образом, выходишь из исповедальни в твердом убеждении, что тебя не поняли и что поэтому тебе не будет прощен грех, раз сам священник не разобрался в твоих словах... Ну да, ну да, я тоже поражена этим недугом! — помолчав, крикнула она. — Но самое главное — знать, кается ли человек с чистыми намерениями или нет; если мы терпим подобную пытку, это не означает еще, что речь идет о выдуманных проступках...
— В таком случае, — прервал я ее наставительным тоном, — речь идет не просто о больной совести, но о раскаянии...
— Ты вложил персты в открытую рану, Луи. Мы пытаемся себя успокоить, прибегая к самым мягким терминам, ты прав, даже очень прав: я страдаю не от больной совести, а от угрызений, да, от ужасных угрызений. Ты, ты с первого слова сумел все понять с обычной твоей быстротой соображения, которой так восхищался бедняжка Леонс Пюибаро. А я отчаялась что-либо объяснить этим неопытным людям, для которых любой грех есть легко определяемый поступок и которые не понимают, что зло может порой отравить всю жизнь, что зло может быть многоликим, невидимым, необъяснимым, а следовательно, его нельзя выразить словами, оно в буквальном смысле не имеет названия...
Она замолчала, чуть привалилась ко мне, я слышал ее бурное дыхание.
— Мне пришла в голову одна мысль, — начал я. (Меня охватило волнение, знакомое мне еще с той поры, когда господин Пюибаро обращался ко мне как к оракулу, а я старался ослепить его своим ответом, в равной мере неожиданным и мудрым.) — Священник, который мог бы успокоить вашу душу, должен не только знать вас уже давно, но ему также должны быть известны в мельчайших подробностях те события, которые вас так мучают. Да-да, — настаивал я, а она смотрела мне в лицо с тем выражением, с каким безнадежно больные люди смотрят на изрекающего свой приговор врача, — господин Калю знал все наперед, в последнем письме он описывает мучающий вас недуг. Не важно, как его назвать — угрызения совести или раскаяние в содеянном: зная причины недуга, он даст вам отпущение грехов.
— Аббат Калю? Да что ты говоришь? Исповедоваться у него мне после того, что я ему сделала...
— Именно после того, что вы ему сделали.
Мачеха поднялась и стала кружить по моей спальне. И простонала, что ни за что не посмеет...
— Безусловно, вам будет тяжело, — настаивал я, — но тем большей будет ваша заслуга...
При слове «заслуга» она вскинула голову.
— Для большинства людей это было бы выше их сил, но для вас...
Она снова выпрямила стан.
— В конце концов... — прошептала она. — Видимо, придется ехать к его брату... А имеет ли он право исповедовать? — допытывалась она. — Да, конечно, в пределах епархии...
Она снова зашагала по комнате. Я нарочно громко зевнул и закутался в одеяло.
— Засыпаешь, Луи? Ну, спи, спи, счастливое дитя.
Она нагнулась над постелью, и ее шершавые губы коснулись моего лба.
— Признайтесь, я подал вам богатую мысль? — самодовольно спросил я.
Мачеха не ответила, толкуя и перетолковывая в уме мое предложение. Уходя, она потушила лампу, но, как только закрылась дверь, я снова зажег свет и снова «Доминик» увел меня далеко-далеко от этой измученной женщины.
Выйдя из поезда, который привез ее от аббата Калю, Бригитта Пиан сообразила, что до обеда остается еще часа два, поэтому она не наняла карету, а пошла пешком в тумане, среди людской толчеи, по ужасно печальному бульвару Сен-Жан, не замечая того, что всегда было ей ненавистно, уверенная в том, что ей простились все грехи. Шла она легкой поступью, и впервые в жизни к порыву благодарности, возносившей ее к Богу, примешивалась смиренная человеческая нежность. С нее сняли бремя боли, она уже не страдала, дышалось ей свободно. Иной раз ее охватывало беспокойство, словно пронзительный зов: сумела ли она во всем до конца признаться? Ну да, конечно, впрочем, тот, кто выслушал ее, уже все знал наперед...
Она жадно внимала тому, что говорили ей в промозглой комнате, побеленной известкой, скудно меблированной, где ее принял аббат Калю. Он не пытался ее успокаивать, но пристыдил Бригитту, что она приписывает слишком большое значение своим заблуждениям, как будто не знает, что даже наши грехи Господь заставляет служить своим предначертаниям. Он умолял ее поглубже проникнуться собственным своим ничтожеством и не заменять прежние иллюзии величавого продвижения по пути совершенства убеждением в том, что нет ее греховнее. Он добавил, что Бригитта многое может сделать для тех, перед кем следует загладить причиненные ею обиды; в отношении мертвых это само собой понятно, но вот в отношении живых... «Вы, например, могли бы помочь мне, — заверил он ее, — походатайствуйте за меня перед кардиналом». (И Бригитта сразу поняла, что Калю просит ее об этом ради нее же самой, ибо жалеет.) А он и не добивается для себя прощения у высших церковных властей, а только просит разрешения поселиться на свой счет между Бастид и Суй — в самом что ни на есть нищенском и заброшенном квартале, снять там себе квартирку, и пусть ему разрешат учить детей закону божьему и отправлять службу. Шагая в тумане легкой, свободной походкой по мокрым тротуарам, Бригитта решила, что она сама покроет все его расходы, и уже рисовала в своем воображении, как новенький приход вырастет вокруг аббата Калю.

![Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)























