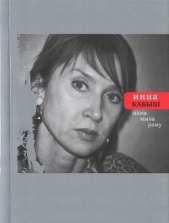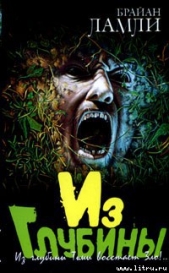Новый Мир ( № 5 2004)
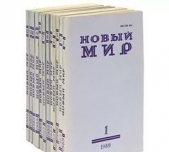
Новый Мир ( № 5 2004) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В другой статье, появившейся также на Западе по-французски, Тютчев сказал, что вселенная отвела России большое место на земле, но философия истории еще не соблаговолила признать его. И вот в его философии истории Россия должна ответить на вызов Революции, ставшей болезнью и как бы судьбой европейского Запада.
Но не одна Россия, а Россия во главе всей Восточной Европы. В набросках трактата “Россия и Запад” (1849) изложена концепция разделения современной цивилизации на два особых мира и даже “два, так сказать, человечества” с разным историческим предназначением: “европейский Запад является лишь половиной великого органического целого, и по видимости неразрешимые затруднения, терзающие его, найдут свое разрешение только в другой половине...” (187). Терзающие затруднения — это терзающие Запад классовые войны. Другая же половина — это вторая, Восточная Европа как целое, законная сестра христианского Запада, особый славянский мир. Эта вторая Европа еще не открыта Западом, когда же будет открыта им в ходе истории, “Европа Карла Великого” встанет “лицом к лицу с Европой Петра Великого” (118). Имя Петра Великого, творца Российской Империи, отделяло Тютчева от классического славянофильства, не только Петра не любившего, но и имперского пафоса не разделявшего. Тютчевский же имперский пафос громадно перерастал национальные рамки и доходил до того, что его оппоненты на Западе называли по-французски — “rкverie gigantesque”, что можно перевести и как “грандиозная греза”, и — как переводят в литературе о Тютчеве — “исполинские бредни”7.
Бредни были воистину исполинские — историческая программа “России ближайшего будущего”:
“Православный Император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима.
Православный Папа в Риме, подданный Императора” (201).
Предсказание не сбылось, но и в наши дни имперская тема еще — и даже по-новому — актуальна8. И критический комментарий к тютчевским мыслям насущен. В 3-м томе нового тютчевского собрания комментарий обширен и подробен — и апологетичен на сто процентов; критический взгляд на тютчевскую систему мыслей здесь не предполагается; благоговейное толкование contra критический анализ — как позиция комментатора.
Среди писем Тютчева, которые были впервые опубликованы И. Аксаковым в его биографии, есть одно, написанное вскоре после падения Севастополя (письмо от 9 сентября 1855 года); оно стоит любого стихотворения поэта, говорит о нем биограф. Тютчев рассказывает о видении, посетившем его на площадке колокольни Ивана Великого, среди многолюдства, ожидавшего выхода царя. “Мне пригрезилось, что настоящая минута давно миновала, что протекло полвека и более, что начинающаяся теперь великая борьба <...> наконец закончена, что новый мир возник из нее <...> что всякая неуверенность исчезла, что суд Божий совершился. Великая империя основана <...> И тогда вся эта сцена в Кремле <...> эта толпа, столь мало сознававшая, что должно совершиться в будущем <...> вся эта картина показалась мне видением прошлого, и весьма далекого прошлого, а люди, двигавшиеся вокруг меня, давно исчезнувшими из этого мира... Я вдруг почувствовал себя современником их правнуков”.
То есть он себя почувствовал нашим современником, скажем мы без всяких ближайших аллюзий. В том же письме он говорил о свойстве своего ума “охватывать борьбу во всем ее исполинском объеме и развитии”. И в другом письме — что задыхается от своего бессильного ясновидения. И вот развитие прошло полтора столетия — и невозможно нам, тем самым правнукам, не сверять тютчевские видения и прогнозы с нашими результатами.
Но, оказывается, — возможно: комментарий к 3-му тому таков, как будто ничего не изменилось и не случилось с тех пор. В единичном случае комментатор с сожалением констатирует “не оправдавшуюся впоследствии закономерность” (272 — 273; речь о российском Царьграде). Закономерность того, что это не оправдалось, не рассматривается, не допускается. Тютчев хотел смотреть на свои прогнозы из будущего — почему бы нам за ним не последовать и не посмотреть на них из нашего настоящего?
Тютчевская историософская мысль долго оставалась современной . Она возбудила нашу консервативную мысль, представлявшую собой мутации славянофильской идеи, но отклонявшуюся от классического славянофильства, — Н. Я. Данилевского, Достоевского, Леонтьева, затем Владимира Соловьева с его теократическо-вселенско-имперскими планами, которых предтечами он называл двоих — Данте и Тютчева. Но и для С. Н. Булгакова уже в 1918 — 1923 годах она не утрачивает актуального нерва: участники диалога “На пиру богов”, вошедшего в 1918 в сборник “Из глубины”, наши вторые “Вехи”, то и дело поминают русский Царьград, “предуказанный Тютчевым и Достоевским”, и надеются, что над Тютчевым “рано еще иронизировать” (а и действительно в ходе европейской войны Константинополь был близок, как локоть, — но снова “закономерность” не оправдалась). Другие же участники ставят на тютчевских предсказаниях крест: “В 1917 году окончилась константиновская эпоха в истории церкви” и “наступила не византийская, но большевистская эпоха в русской истории”9. Пять лет спустя размышления о. Сергия продолжаются непосредственно в храме св. Софии, и вспоминаются тютчевские слова и строки, и заключения еще решительнее: “не политическому завоевателю, не „всеславянскому царю” откроются врата Царьграда <...> Как невыносимо сделалось всяческое безответственное славянофильствование!”10 Таковы ответы русского православного мыслителя в самом центре заветных вопросов. Но как он в этом идеальном центре очутился? А только что был год 1920-й, когда вступила в действие сила, называемая иронией истории, — и начала она раз за разом себя проявлять по отношению к тютчевским пророчествам: российское белое воинство (о чем вспомнил в упомянутой статье Ю. Каграманов) — “все, что оставалось от третьего Рима”, — бросило якорь “не где-нибудь, а на рейде Константинополя, в виду столь желанной Святой Софии”, и убежищем белой России вместо Царьграда стал маленький полуостров Галлиполи.
“Православный империализм Тютчева есть живой пример того, с какими трудностями сталкивается русская историческая и философская мысль, выполняя задачу определения и разграничения вопросов „духа” и „политики””11. С. Булгаков еще переживал историко-философские грезы Тютчева как нечто живое и современное — другой православный мыслитель уже через год (в 1924-м) рассматривает их исторически, как “прошлое русской мысли”. Замечание Флоровского отмечало тютчевскую проблемную точку. Точка эта — “византийское” сближение, до смешения и почти что отождествления, христианского и церковного с государственным, имперским и племенным, национальным. Можно заметить, что, единомышленник в отношении к римскому папству, Достоевский не разделял византийского пафоса Тютчева. Византийская “симфония” для Достоевского — компромисс, порожденный “столкновением двух самых противоположных идей, которые только могли существовать на земле: человекобог встретил богочеловека, Аполлон Бельведерский Христа. Явился компромисс: империя приняла христианство, а церковь — римское право и государство”. После падения Византии и в несложившихся формах русской общественной жизни у нас “остался лишь Христос, уже отделенный от государства”12. Такого Христа знал поздний Тютчев-поэт (“Кто их излечит, кто прикроет?.. / Ты, риза чистая Христа...”) и не знал идеолог Тютчев. В его православной славянской империи составляющие определения представлялись как дух и тело, а комментатор нашего тома даже рискнул уподобить этот сложный состав нераздельным и неслиянным двум природам Христа (454), совместив тем самым Христа с земным человеческим установлением. Нынешний православный комментарий к тютчевскому “православному империализму” проходит мимо тех “трудностей”, которые позволял себе трезво заметить православный философ ХХ века. Апологетический комментарий себе этого позволить не может — никакого проблемного заострения. Мы читаем комментарий и отдаем должное его серьезной обстоятельности. Мы благодарны Б. Н. Тарасову за перевод единым пером всего корпуса тютчевской мысли. Но обстоятельный комментарий, собственно, беспроблемен — и несвободен; подходы апологетический и аналитический совместимы с трудом. А какой материал из русской идейной истории для понимания! “Россия погибнет от бессознательности” — у Тютчева был и такой прогноз (в письме И. С. Аксакову 19 ноября 1871 года), и сегодня он актуален, как и тогда. Но это значит, что и отношение к нашей идейной истории лучше бы, чтобы было трезво-сознательным.