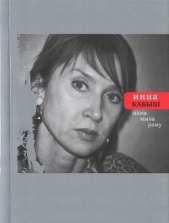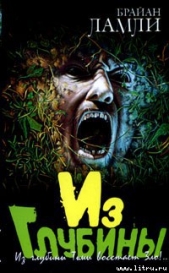Новый Мир ( № 5 2004)
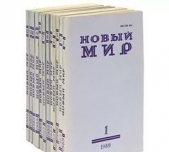
Новый Мир ( № 5 2004) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
4 Касаткина В. Н. Поэтическое мировоззрение Ф. И. Тютчева. Саратов, 1969, стр. 6, 7, 17, 32.
5 См.: Черейский Л. А . Пушкин и его окружение. Изд. 2-е, доп. и переработ. Л., 1988, стр. 218.
6 См.: Гербель Н. В. Христоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образцах. СПб., 1873, стр. 345 — 346.
7 В своих мемуарах (М. — Л., 1930; фрагмент о Тютчеве впервое опубликован в 1923 году) Быков приводит еще одно стихотворение Тютчева, которое тот якобы подарил ему при встрече в середине 1860-х годов (“Я не ценю красот природы...”). Я подозреваю, что комментаторы ПСС с радостью включат в основной корпус следующего тома и этот текст, и поэтому предлагаю им задуматься над следующим: а) почему Быков, постоянно в мемуарах ссылающийся на свой дневник (кстати, так и не найденный в его архиве), не указывает ни одной точной даты; б) с какой стати Тютчев, известный своим замкнутым характером и только что потерявший любимого человека, стал бы откровенничать с малознакомым ему юношей (в 1865 году Быкову — 21 год, Тютчеву — 62), а уж тем более дарить тому стихотворение, посвященное недавней утрате; в) почему Быков не включил это стихотворение в подготовленное им десятилетием ранее Полное собрание сочинений Тютчева, вышедшее несколькими изданиями.
Тютчевская историософия: Россия, Европа и Революция
Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма в 6-ти томах. Том 3. Публицистические произведения. [Составление, перевод, подготовка текста, комментарии
Б. Н. Тарасова.] М., Издательский центр “Классика”, 2003, 528 стр., с ил.
“Уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества” (1441).
Это было написано Тютчевым в 1848-м, в год европейских революций. Статья “Россия и Революция” была написана по-французски и напечатана по-французски в Париже; в России по-русски она смогла появиться только четверть века спустя, в год смерти Тютчева; затем, в советской России, она, как и вся политическая проза Тютчева, не перепечатывалась, понятно, ни разу (и это при множестве разных изданий поэта в то же советское время); время для тютчевской публицистики пришло в перестройку, и вот наконец событие — 3-й том собрания сочинений, где она впервые собрана вся (вся, известная нам сегодня) в оригинале и в новых переводах Б. Н. Тарасова и с его же обширным комментарием, объемом своим значительно превышающим сам тютчевский текст на двух языках, вместе взятых, так что можно этот том читать как книгу двух авторов — Федора Тютчева и Бориса Тарасова.
Жизнь поэта делилась, как вспоминал один из его знакомых, между поэтическими и политическими впечатлениями. Так же делил эту жизнь и первый биограф, Иван Аксаков, и впечатления политические оказались в его биографии на первом плане, точнее — Тютчев как мыслящий человек даже больше ее герой, чем Тютчев-поэт. “Каждое его слово сочилось мыслью”. И самая поэзия Тютчева для его биографа — это словно особая функция от “нестерпимого блеска” его мысли. В этот нестерпимый блеск и попадает читатель 3-го тома тютчевского собрания.
Анна Федоровна, любимая дочь, записывала в свой дневник об отце, что он представляет собой “воплощенный парадокс”. То же можно сказать о тютчевской философии истории — и она представляет собой парадокс, удивительно цельно и непротиворечиво внутри себя “воплощенный”. Публицистика Тютчева — это одна разветвленная мысль, в которой есть звено центральное, тезис самый остро-ответственный, и этот тезис — “Россия и Революция”.
Тютчев пишет Революцию с заглавной буквы, как имя собственное, как и Россию. В его картине мира это две духовно непримиримые личности-силы. Французская революция заставила европейскую мысль философски задуматься над самим явлением революции, и мистический образ ее как сатанинской силы, попущенной Богом для принесения человечеством искупительной жертвы, был начертан Жозефом де Местром, близнецом-предшественником и антагонистом тютчевской мысли (“к де Местру он психологически ближе, чем даже к Хомякову”, — писал о Тютчеве Г. В. Флоровский2). Тютчевский образ Революции возник уже на другом европейском этапе, когда она себя обнаружила как цепная реакция, как непрерывно действующая в новой истории и нарастающая в ней сила. Европа прошла уже через несколько взрывов (1830, 1848) и непрерывно менялась в них — “зима железная” государственной русской истории до катастрофы Крымской войны казалась недвижной, она лишь раз “дохнула” на кровь героев Сенатской площади — “И не осталось и следов”. Так Тютчев-поэт фиксировал национальное историческое состояние сразу после события (1826), двадцать же лет спустя на европейском фоне наш “вечный полюс” уже предстал в его поэзии как не только могучий, но и надежный “утес”. Мы привыкли политическую лирику Тютчева отделять от его основной поэзии (и даже печатать ее отдельно, словно стихи второго тютчевского сорта), однако в живописании грозных событий истории, и Революции прежде всего, космические силы тютчевской лирики полноценно участвуют, и политические стихи обретают местами (правда, все же только местами) поистине тютчевскую историософскую мощь. “Прообразом исторического события — в природе служит гроза”. Краткая незаконченная заметка О. Мандельштама обрывается на имени Тютчева, “знатока грозовой жизни”3, каков он нередко и в политической лирике.
Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила —
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?
Не вспомнится ли здесь нам нечто памятное из нашей поэзии? “Еще кипели злобно волны, / Как бы под ними тлел огонь...” И еще: “Словно горы, / Из возмущенной глубины / Вставали волны там и злились...” В “Медном Всаднике” словно бы параллельные места к будущей тютчевской политической лирике:
Но с нами Бог!.. Сорвавшися со дна,
Вдруг, одурев, полна грозы и мрака,
Стремглав на нас рванулась глубина...
Не то же ли море, не та же ли глубина и не тот же огонь? Пушкинская картина петербургского наводнения — совсем не то, что голая политическая аллегория Тютчева. Но прообразом исторического события, по Мандельштаму, пушкинская отнюдь не метафорическая картина-буря также неявным образом служит. Пушкин также был озабочен европейскими революциями и угрозой русского бунта. И тайно в его поэме бунт водной стихии против державного города и бунт малого человека против державного всадника эту угрозу в себе заключали. За пятнадцать лет до тютчевской политической лирики “Медный Всадник” тайно пророчил русское будущее как предстоящую нам борьбу огромных сил Империи и Революции — двух главных героев тютчевской историософии. И Тютчев через пятнадцать лет своим “Морем и утесом” эту борьбу поэтически и статьей “Россия и Революция” теоретически заговаривал-заклинал.
“Россия и Революция” — так он переформулировал нашу вечную тему о России и Европе: приравнял Европу к революции как судьбе Европы и отделил, отмежевал от революции Россию. Его пророчество не сбылось, и это нетрудно сегодня заметить, но как он увидел само явление Революции? “Революция не только враг из крови и плоти. Она более чем Принцип. Это Дух, Разум...” (в оригинале: “c’est un Esprit, une Intelligence...” — 183, 79). C’est un Esprit, это Дух! Один из первых не только у нас, но в Европе он так мощно понял ее не только как политический факт, но как духовную силу, вступившую в историческую борьбу с духовной силой христианства и “перехватившую” у христианства его идеи и священные ключевые слова (“братство”). “Православный граф де Местр”, как окрестил посмертно Тютчева его знакомец по молодости Иван Гагарин4 (привезший некогда в пушкинский “Современник” его стихи, а к этому времени эмигрант и католический священник-иезуит), — он произвел романтическую спиритуализацию явления Революции вслед за де Местром (умерив мистический ореол, которым тот ее наделил сверх меры). Он увидел ее как живое олицетворение, мифологическое существо. Один из наследников тютчевской мысли, Константин Леонтьев даст позднее такое ей описание: “представление мифическое, индивидуальное, какая-то незримая и дальновидная богиня, которая пользуется слепотою и страстями как самих народных масс, так и вождей их для своих собственных как бы сознательных целей”5. Дальновидная богиня! — дальше видевшая, как окажется, автора “России и Революции”. Но автор первый у нас в своей философской с нею борьбе овладевал пониманием размера и сущности этой силы. “Революция, бесконечно разнообразная в своих этапах и проявлениях, едина и тождественна в своем главном начале...” (181). Ее “формы и лозунги, даже насилия и преступления — все это частности и случайные подробности. А оживляет ее именно антихристианское начало, дающее ей также (нельзя не признать) столь грозную власть над миром” (144 — 145). Нельзя не признать! Тем самым он признавал за ней ту глубину, о которой сказала его поэзия: “Стремглав на нас рванулась глубина”. Глубина как лоно свирепых сил Революции; черная, но — глубина, что рванулась на нас из недр мировой духовной истории. Еще раз вспомним из “Медного Всадника”: “Как обуянный силой черной...” — Евгений перед кумиром. Бунт его также “из возмущенной глубины” вырывается — не той же ли (символически) самой, что у тайной его союзницы, но его же и губящей, — водной стихии? Надо ли говорить о глубине в самом деле этого столь изнутри обоснованного и сочувственно-понятного возмущения природы и человека сверх того, что сказал сам поэт? Поэт в поэме с Петром и Евгением вместе (“присутствие тени поэта в Евгении”6) — и между ними. Но дальновидная богиня поведет Евгения в двадцатый век, и литература нового века расскажет об этом, например, в “Петербурге” Андрея Белого, где новоявленный Евгений обернется эсером-террористом.