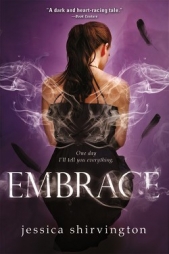Что я любил

Что я любил читать книгу онлайн
Сири Хустведт — одна из самых заметных фигур в современной американской литературе: романистка, поэтесса, влиятельный эссеист и литературовед, а кроме того — на протяжении без малого тридцати лет жена и муза другого известного прозаика, Пола Остера. "Что я любил" — третий и, по оценкам критики, наиболее совершенный из ее романов. Нью-йоркский профессор-искусствовед Лео Герцберг вспоминает свою жизнь и многолетнюю дружбу с художником Биллом Векслером. Любовные увлечения, браки, разводы, подрастающие дети и трагические события, полностью меняющие привычный ход жизни, — энергичное действие в романе Хустведт гармонично уживается с проникновенной лирикой и глубокими рассуждениями об искусстве, психологии и об извечном конфликте отцов и детей. Виртуозно балансируя на грани между триллером и философским романом, писательница создает многомерное и многоуровневое полотно, равно привлекательное как для "наивного" читателя, так и для любителя интеллектуальной прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я еду.
Из окна такси я с неестественной отчетливостью видел знакомые улицы, вывески, толпы прохожих на Канал — стрит, ощущая, что это картинка и меня на ней нет, что все вокруг неосязаемо, что останови я такси и выйди из машины, рука ухватит лишь пустоту. Я знал это чувство. Однажды я это уже пережил. И теперь, когда я входил в дом на Бауэри, оно было со мной. Из-за двери бывшей слесарной мастерской доносился голос мистера Боба, читавшего молитву. Но шекспировская полнозвучность, к которой я успел привыкнуть, теперь исчезла, сменившись неразборчивым распевным рокотом, идущим то вверх, то вниз. По мере того как я поднимался по лестнице, этот голос становился все глуше, а ему навстречу шел другой — полушепот Вайолет, доносившийся из мастерской, от которой меня отделяли несколько ступенек. Дверь была не заперта и чуть приоткрыта. Тихий голос Вайолет все журчал и журчал, а я топтался на пороге и не мог войти, потому что знал, что там, внутри, увижу Билла. Дело тут не в страхе, а скорее в нежелании вторгаться в нетронутую отчужденность умершего. Но колебания мои длились лишь мгновение, и я толкнул дверь. Верхний свет был выключен, тусклый предзакатный сумрак лился из окна на волосы Вайолет, сидевшей на полу возле стола, в самом дальнем углу мастерской. Она покоила на коленях голову Билла и, склонившись, говорила что-то тем еле слышным голосом, который звучал сегодня в телефонной трубке. Даже издали было понятно, что Билл мертв. Такую физическую неподвижность невозможно было принять ни за отдых, ни за сон. Мне доводилось видеть этот неумолимый покой. Так было с моими родителями, потом с сыном, и теперь, когда я смотрел на Билла, то с первой секунды знал, что Вайолет баюкает мертвое тело.
Несколько секунд я стоял не шевелясь, поэтому она не слышала, как я вошел. Я обводил глазами знакомую комнату с рядами холстов вдоль стен, с громоздившимися на антресолях коробками, с папками, набитыми рисунками, стопки которых поднимались от пола до подоконника, с просевшими книжными полками, такими родными, с деревянными ящиками, в которых лежали инструменты. Я впитывал все это, все, включая пылинки, пляшущие в вечерних лучах солнца, вызолотившего на полу три длинных прямоугольника. Я сделал шаг, потом другой, Вайолет подняла голову. Наши глаза встретились. На какую-то долю секунды черты ее исказились, но она тут же зажала рот рукой, а когда убрала ладонь, лицо было уже спокойным.
Я подошел и встал рядом. Билл лежал с открытыми глазами, в которых была пустота. Там, внутри, не было ничего, и от этой незаполненности становилось больно.
Господи, почему она их не закрыла? Она должна была закрыть ему глаза, пронеслось у меня в голове. Не знаю зачем, я поднял руки, но они так и повисли в воздухе.
— Я так не хочу, чтобы его увозили, — вздохнула Вайолет. — Но они, конечно, не разрешат его оставить.
Она прищурилась.
— Я здесь уже давно. Который час?
Я посмотрел на часы:
— Десять минут шестого.
Билл лежал с очень ясным лицом, на котором не было ни мук, ни следов агонии, кожа казалась глаже и свежее, чем я помнил, словно смерть бесследно стерла добрый десяток лет. Он был в синей затрапезной рубахе, заляпанной чем-то жирным, и почему-то при виде этих сальных пятен на нагрудном кармане меня затрясло. Рот сам собой приоткрылся, и оттуда вырвался вой. Я быстро взял себя в руки.
— Когда я пришла, было четыре, — произнесла Вайолет. — Марка сегодня отпустили из школы пораньше. Да, было четыре.
Она посмотрела на меня и резко скомандовала:
— Давай, звони быстрее.
Я подошел к телефону, постоял, глядя на аппарат, и набрал 911. А куда я еще мог позвонить? Продиктовал адрес, сказал, что, вероятно, был сердечный приступ, но точно я не знаю. Диспетчер службы спасения сообщила, что сейчас приедет полиция. В ответ на мои протесты она заявила, что таков порядок и полицейские останутся у нас до приезда медэксперта, который обязан установить причину смерти. Когда я повесил трубку, Вайолет нетерпеливо посмотрела на меня:
— Подежурь пока в парадном, они скоро приедут. Я хочу побыть с ним одна.
Вниз я спускаться не стал, просто сел на ступеньки прямо возле приоткрытой двери мастерской. Пока я там сидел, то впервые заметил в стене глубокую трещину, на которую прежде не обращал внимания. Я сунул в нее палец и медленно водил по всей длине, раз, потом другой. До меня доносился шепот Вайолет, она что-то рассказывала Биллу, но я даже не пытался вслушиваться. Снизу раздавалась заунывная молитва мистера Боба, на улице шумели машины, я слышал сигналы автомобилей на Манхэттенском мосту. На лестнице было темно, только стальная дверь подъезда тускло поблескивала, очевидно, на нее падал свет из мастерской. Я опустил голову на руки и вдохнул знакомый запах краски, плесени и опилок. Билл умер так же, как и его отец, — просто упал замертво. Упал и умер. Не знаю, понимал ли он, что резкая боль в груди, сдавившая сердце, означает смерть. Мне почему — то казалась, что понимал и что спокойствие, написанное на его лице, означало осознание кончины. А может быть, я просто обманывал себя, чтобы хоть как-то смягчить образ распростертого на полу мертвого тела.
Я пытался воссоздать в памяти наш с Биллом вчерашний разговор о видеомонтаже. Он сказал, что через пару месяцев начнет, и объяснял мне технологию процесса, как устроен монтажный стол, но когда понял, что я в этом решительно ничего не смыслю, расхохотался и махнул рукой: — Ты меня прости, тебе, наверное, все это надоело до смерти.
Но мне совсем не надоело, я так ему тогда и сказал. Однако, сидя сейчас на ступеньках, я сознавал, что мог бы быть куда убедительнее. Когда мы прощались, между нами пролегла еле заметная трещинка, хотя догадаться о ней можно было только по тени разочарования, мелькнувшей в глазах Билла. Возможно, он чувствовал мою настороженность по отношению к своему внезапному увлечению видеосъемкой, и ему было неприятно. Глупо, конечно, столь пристально всматриваться теперь в этот совсем незначительный разговор, поставивший точку в нашей дружбе, которая длилась двадцать лет, но жало памяти не давало мне покоя, и все отчетливее становилась мысль, что мы уже никогда не сможем поговорить ни о видео, ни о чем другом.
Прошло еще немного времени, и я понял, что не слышу шепота Вайолет. Внизу, у мистера Боба, тоже было тихо. Обеспокоенный, я встал, приоткрыл дверь мастерской и заглянул внутрь. Вайолет свернулась калачиком на полу рядом с Биллом. Ее голова лежала у него на груди, одну руку она просунула ему под спину, а другой обхватила за шею. Рядом с ним она казалась очень маленькой и живой, хотя лежала не шелохнувшись. За те несколько минут, что я сидел на лестнице, освещение изменилось. Еще можно было что-то разобрать, но свет ушел, и обе фигуры окутывал мрак. Виден был только профиль Билла и затылок Вайолет. Ее рука скользнула с его шеи вниз, по плечам. Она гладила его, гладила и раскачивалась всем корпусом, прижимаясь к массивному неподвижному телу мужа. Я стоял в дверях и смотрел.
Сколько раз потом я корил себя за то, что стал свидетелем этих мгновений. Еще там, в мастерской, когда я видел их двоих на полу, осознание собственного одиночества сомкнулось вокруг меня, как запаянная стеклянная реторта. Я был человеком из коридора, наблюдавшим за финальной сценой, разыгрывающейся внутри комнаты, где я провел бесчисленные часы, но порога которой так и не посмел тогда переступить И все-таки я счастлив, что видел Вайолет, прильнувшую к Биллу в последние отведенные им минуты, и, наверное, тогда я тоже знал, что мне должно это видеть, поэтому не отводил глаз и не уходил на лестницу Я стоял в дверях и смотрел, пока не раздался звонок и не вошли двое молоденьких полицейских, прибывших исполнить свой долг — околачиваться в квартире покойного до прихода медэксперта, который констатирует смерть Билла и официально установит ее естественную причину.
Часть третья
Отец как-то рассказывал, как он однажды заблудился. Ему тогда едва исполнилось десять лет. У его родителей была дача в окрестностях Потсдама, и детей каждый год вывозили туда на все лето, поэтому леса, луга и холмы в округе отец знал как свои пять пальцев. Рассказывая мне эту историю, он специально подчеркнул, что в тот день они с братом поссорились. Давид, которому было тринадцать, завопил, что хочет побыть один, заперся в их общей комнате, а братишку выставил за дверь. После потасовки мой пышущий гневом и обидой отец один убежал в лес, но, поостыв, вдруг почувствовал, что ему там очень нравится. Он петлял между деревьями, искал следы зверей, слушал пение птиц — в общем, шел себе и шел, пока не понял, что представления не имеет, где находится. Тогда он повернул назад и попытался было найти дорогу по собственным следам, но не смог узнать ни единой полянки, ни единого валуна, ни единого дерева. В конце концов ему удалось выйти из леса. Он стоял на холме, а внизу расстилался луг и торчал чей-то дом. Он смотрел на сад возле дома, на автомобиль, ничего не узнавая. Прошло несколько секунд, прежде чем до него дошло, что это их дом, их сад и темно-синяя машина во дворе — тоже их. Вспоминая об этом ощущении, отец крутил головой и говорил, что запомнил его на всю жизнь. Он видел в нем одну из вечных загадок познания и разума. "Местность, которой нет на карте" — вот как он это назвал, а потом пустился в пространную лекцию о поражениях мозга, в результате которых больные не узнают никого и ничего.