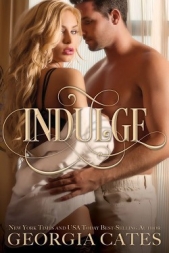Новый Мир ( № 4 2006)
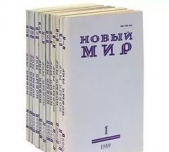
Новый Мир ( № 4 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И фотографию можно было бы подобрать соответствующую, ту самую, на которой Маяковский и Пастернак. Один — бритый, другой — шевелюристый. Один стоит за спиной другого. Видно, что тот, кто на первом плане, оттолкнется и уйдет от того, кто стоит за его спиной. Всю оставшуюся жизнь будет отталкиваться от того, кто на фотографии стоит за его спиной. В слове “предательство” здесь нет ни осуждения, ни оправдания. Это слово здесь безоценочно и метафизично. Кто-то остался, а кто-то ушел. Здесь — ницшеанство высшей, настоящей пробы, до которой самому Ницше было не допрыгнуть, а русский поэт смог.
Что-то было в нем пугающее, что-то позволяющее ему переводить “Фауста”. И все воспоминатели, все мемуаристы каким-то чудом описывают дугу вокруг этого пугающего, не называют его, а… оно все одно ощутимо. Быков, к сожалению, не называет того, кто предположил, что Врубель, часто бывавший в семье Леонида Пастернака, изобразил в качестве Демона молодого Бориса Пастернака. Это предположение петербургского литературоведа Леонида Дубшана. Но само предположение приводит. Это — верно. Это очень похоже на правду.
Биографии — штуки поучительные. Пишущий биографию всегда под сурдинку поучает: вот, дети, с кого надо делать жизнь… или наоборот: дети, если будете так безобразничать, как этот дядя или эта тетя, то и вам будет так же скверно, как этим дяде-тете. Быков вообще склонен к поучениям, к морализаторству, даже в лучших своих балладах он за шаг до басни, не притчи, а басни, что уж говорить о биографии. А кстати: много ли поэтов писало биографии других поэтов? Я помню только Ходасевича, написавшего биографию Державина и придумавшего Василия Травникова. И все, пожалуй, все… Биография поэта, написанная поэтом же, волей-неволей становится профессиональным и житейским кредо пишущего поэта.
Что такое Пастернак в исполнении Быкова? Сверхпоэт; поэт, живущий только для того, чтобы писать стихи, драмы, поэмы, романы. Что такое жизнь Пастернака в изображении Быкова? Это не просто интересная жизнь… Это — сказочная жизнь или авантюрная жизнь. Та жизнь, для которой подошли бы книга сказок или авантюрный роман вроде “Трех мушкетеров”. А что? В Борисе Пастернаке немало мушкетерского. Рисковал, пил, ссорился с властями, мирился с властями, любил красивых женщин. Была в Пастернаке какая-то изумительная суперменская повадка. Недаром его так полюбили американцы. Фильм сняли голливудский, сам Тарантино рядом с могилкой присел и пригорюнился. А вот, между прочим, зря Быков не написал главу: “В зеркалах: Тарантино”. Пастернак — он ведь вроде Джекки Браун из одноименного фильма Квентина: старый, одинокий, а против него — такое чудище, такая пушка. И вот поди ж ты! Сделал, победил это чудище, как немолодая негритянка Джекки — сделала всех, от торговца оружием до полицейских. Нет, нет, недаром Тарантино так задушевно говорил о русском писателе Пастернаке. Недаром.
Пастернак был из породы победителей. Это прекрасно изобразил Дмитрий Быков. Дело не в уме, не в расчетливости, прозорливости, трезвости. Дело — в потрясающем социальном инстинкте. И то сказать: славянофильская поэма Пастернака, писавшаяся им в конце войны, свидетельствовала: он развивался в правильном, магистральном направлении. Это “откровенные марксисты”, вроде молодых Самойлова и Слуцкого, могли чертить по воздуху геополитические ревчертежи и предполагать, что дело идет “к восстановлению коминтерновских лозунгов” (Самойлов Д. Памятные записки. М., 1995, стр. 160). Пастернак давно уже просек, что не тем хороша Россия, что в ней произошла Октябрьская революция, а тем хороша Октябрьская революция, что она произошла в России.
Ходасевич вот был и умнее, и трезвее, и прозорливее Пастернака, ну и помер в парижской больнице для бедных. А Пастернак так умудрился себя сориентировать в социальном пространстве, что в самый разгар травли за ним присылали машину, чтобы везти не на Колыму, а в ЦК — побеседовать… Просто ощутимо злорадство, с каким Быков описывает встречу Пастернака с Поликарповым. Слышно не произнесенное поэтом по адресу власти: “Ну что, гады, нарвались на того, кто смог дать сдачи? Получите…” Процитирую с таким же удовольствием:
“„Ай-ай-ай, Дмитрий Алексеевич! — сочувственно воскликнул Пастернак. — Как вы бледны, как плохо выглядите! Не больны?” Вид у Поликарпова был в самом деле не лучший — еще бы, после бессонной недели!.. „Пожалуйста, — выпишите пропуск девочке внизу, — попросил Пастернак. — Она будет меня отпаивать валерьянкой”. — „Как бы нас не пришлось отпаивать”, — покачал головой Поликарпов…” Ну правда же, диалог если не из тарантиновских фильмов, то из фильмов братьев Коэн. Американский диалог: одиночка ведет разговор с мафией на равных. И мафия уважает, опасается одиночку.
Мне-то это не слишком по нраву. Здесь есть один парадокс восприятия. На мой взгляд, успех “Лолиты” человечнее успеха “Живаго” и “Тихого Дона”. “Лолита” — книга куда более нравственная, чем два романа двух нобелевских лауреатов. “Так пошлиною нравственности ты / Обложено в нас, чувство красоты!” — не отговорка циника, а спокойное убеждение настоящего моралиста, каковым Набоков и был. Мораль “Лолиты” очень проста: нельзя трахаться с несовершеннолетними, хотя очень хочется. Почти мораль “Преступления и наказания”: нельзя убивать старушек, хотя очень хочется. Есть какие-то непереступаемые законы нравственности — абсолютное убеждение Набокова. Между тем как Шолохов и Пастернак в этом последнем вовсе не убеждены, совсем не убеждены. Недаром сравнивают два этих великих романа. Не только потому, что и в “Тихом Доне”, и в “Докторе Живаго” описывается погибший мир (у Шолохова — казачество, у Пастернака — дореволюционная интеллигенция), — но еще и потому, что главный задушевный герой и Шолохова, и Пастернака — настоящий, доподлинный, мучительный и мучающий других… ницщеанец. Ему все позволено. Он — личность. Он так хорош, что окружающая его мелюзга радоваться должна, что вот позволено жить рядом с таким… Наверное, это — правильно, но мне это не нравится.
А Быкову нравится. Он пишет книгу об удавшейся жизни. Красивые здесь красивы, плохие — плохи, а хорошие — хороши. Здесь нет полутонов. Каждый здесь получает то, что заслуживает. Если поглядеть да посмотреть, какая книжка архетипична биографии, написанной Быковым, то это — “Мастер и Маргарита”. Даже хулиганства Пастернака отдают тем самым, не то воландовским, не то обаятельно-бегемотовским: “Федин созвал писателей на новоселье. На почетном месте сидел Пастернак. Гости были сановитые — редколлегия „Нового мира”, в которую входил и Федин; Вишневский — главный редактор „Знамени”, в 52-м — законченный литсановник апоплексического сложения, вставлявший в речь флотские словечки и ругательства. Когда уже порядочно клюкнули, Вишневский встал и провозгласил тост за будущее настоящего советского поэта Пастернака. Он подчеркнул — „советского”. Пастернак меланхолично поковыривал вилкой салат и так же меланхолично протянул: „Все-еволод, идите в п..ду!” В первый момент никто ничего не понял. Вишневский замер квадратным изваянием с рюмкой в руке. Пастернак, не отрываясь от своего занятия, внятно повторил для тугоухих: „В п..ду!””
Подумаешь, послал подальше начальника, но как смачно описано! С каким удовольствием этот эпизод не то чтобы перечитываешь, но переписываешь… Две тенденции столкнулись и стакнулись в книге Быкова о Пастернаке. Одна — идейная. Дмитрий Быков мономан. У него — одна, ну от силы три идеологемы, которые он с непревзойденным талантом и упорством излагает во всех своих произведениях. История — нечто вроде погоды, никуда не деться от ее изменений, что же до поэтов, то лучшие из них те, кто живут в согласии с климатическими изменениями общественной погоды; те, что живут в ладу с историческими зимой, весной, летом, осенью. Высокий конформизм, стоицизм героического обывателя.
Быков уверен в абсолютном равнодушии социальной природы к отдельной человеческой личности. Любое социальное изменение совершается независимо от людей. Сопротивляться революции или способствовать ей — все равно что сопротивляться зиме или способствовать весне. Социальные изменения для Быкова подобны изменениям климатическим: стихия! А раз так, то со стихии взятки гладки; и так же гладки взятки с тех, кто внимателен к этой стихии… Мне это тоже не по душе. Мне больше по душе немецкий летчик, о котором рассказывал сын Пастернака. Эпизод — маргинальный, на обочине повествования, но до чего же он важен, этот маргинальный эпизод: “…немецкий летчик добровольно сдался в плен, увидев огромную толпу мирных жителей, вышедших к верховьям Днепра рыть окопы. Что уж там творилось в душе этого впечатлительного летчика — один Бог ведает: это попытался реконструировать в своем рассказе Андрей Платонов”. Выходит, не полным фуфлом была интернационалистская пропаганда: значит, и у немцев были свои “догматики Петровы”, для которых были внятны слово “класс”, и слово “Маркс”, и слово “пролетарий”. Об этом летчике впору баллады бы писать, как написал балладу о “майоре Петрове” Борис Слуцкий. Что с ним стало, с этим летчиком?