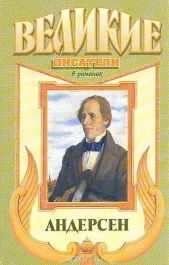Новый Мир ( № 1 2006)
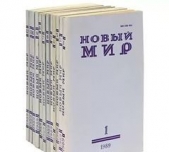
Новый Мир ( № 1 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ничего исторического в “Золоте бунта” нет. Появляется тут Пугачев — правда, в видении героя, но поди пойми, чтбо виденье (мренье, как говорят в романе), а чтбо истина. Да половина событий этой книги никак не интерпретируется в терминах реализма! Куда делись солдаты, “ушедшие во мренье” — в странный оазис, проступивший уж подлинно меж тремя соснами? Кто ночью крутил избу, в которой Ефимыч, Осташа и солдаты заночевали? В роман Иванова свободно вплетаются самые разные мифологии — от древнеславянских до вогульских. (Кстати, бесчисленные вогульские словечки, все эти эруптаны и ургаланы, выполняют в книге ту же функцию — создают непостижимый мир, в котором значения, в общем, необязательны: читатель волен вчитывать их в текст самостоятельно, как самостоятельно представляет себе бокров и калушу.) И уж конечно, к традиционному русскому реализму никаким боком не относится фабула “Золота бунта”, стоящая на главном фантастическом допущении: истяжельчестве, истяжении души.
В сущности, “Золото бунта” — такая же сектантская поэма, как “Серебряный голубь” Андрея Белого, и не случайна перекличка этого золота с тем серебром. Русская секта — традиционный объект особо пристального внимания символистов и фантастов, в диапазоне от Белого до Пастернака, от Вс. Иванова до Еремея Парнова. Нигде с такой силой не сказалась фантастическая и фантазирующая душа народа: иногда кажется, что православию она так и не досталась. Оно вынуждено довольствоваться страхом, послушанием, почтением к власти — то есть совершенно не теми чувствами, которые составляют основу религиозности, хотя и служат ее неизменными спутниками. Религиозность начинается с порыва вовне, прочь из мира, в котором нет ни красоты, ни справедливости, — и такова вера русского сектантства с ее пламенностью, болезненными фантастическими изломами и еще одной главной русской чертой, а именно ненавистью к остальному миру. Правда — у нас, прочие лежат во зле. Эта русская тяга к взаимному истреблению, русская претензия на обладание конечной истиной окрашивают все события нашей истории. Всякая революция оборачивается тут прежде всего самоистреблением и к налаживанию жизни никогда не ведет: одни сектанты бьются с другими, а государственников, по сути, и нет, потому что быть государственником, по сектантским правилам, “западло”. Сектантскими чертами обладают все наши объединения, левые и правые, либеральные и консервативные. Признаки секты есть и у пугачевцев в изображении Иванова (не зря Емельян — он же Петр III — наделяется тут неким мистическим ореолом и пророчествует: он классический вождь секты — как, собственно, и Разин, и Ленин, не зря когда-то объединенные Нарбутом в одной строке). Потому, собственно, ни одна из побед — вне зависимости от того, консерваторы побеждают или либералы, — не приводит здесь к народному благу: главная цель победившего сектанта — истребление несогласных. Вот почему наша история — череда истреблений, вот почему весь путь ивановского Осташи — путь вражды.
По-сектантски враждуют раскольники и никонианцы, истяжельцы и солдаты, пугачевцы и екатерининцы, и даже сплавщики делятся на сторонников Колывана и сторонников Перехода... Почему так? — об этом, в сущности, роман, в этом главная проблема для Иванова, потому что Осташа его все время задается вопросом: почему он вечно обречен разрушать чужие жизни и подвергать опасности свою? Весь путь его — широкая кровавая полоса: изнасилования, смерти, избиения, засады, пытки, чудесные спасения — не доставляющие, однако, никакой радости, при том, что вместо него всегда гибнет кто-то другой... Почему Осташа вечно вносит сумятицу в чужую жизнь, рушит ее, губит всех, с кем свяжется? Да потому, что он классический романтический герой, как и полагается в романтической поэме, — а главная примета романтического героя в том и заключается, чтобы всех губить. Потому что он — принципиальный неприсоединенец, которому ни в одной секте спасения нет. Он кержак, раскольник — но отнюдь не фанатик (и даже солдат наводит на родной скит — утешая себя тем, что в нем все равно никого нет). Он ни в одном сообществе не уживается, потому что ищет собственную правду и вообще не склонен к растворению в “бездне народа и судьбы”, как названо это в романе. Судьба этого одиночки, странствующего не столько по скитам и плотбищам, сколько по классическим сюжетам и коллизиям русской литературы, — нормальная фабула романтической поэмы или романа. Так Печорин рушит жизнь “честных контрабандистов”. Это вообще очень русская схема — герой, не желающий играть по правилам и потому портящий всем игру. Осташа — человек, живущий собственным умом, последовательный и упрямый, и потому в тотально непоследовательном русском мире от него одни неприятности. “Душа народа только в деле жива. Нет дела общего — и нет души. Может, у народов иных держав все как-то иначе... Нет общего дела, и каждый сам по себе хорош. А мы без общего дела как без ума”, — говорит в романе Корнила, и это тоже черта романтической поэмы, а вовсе не реалистического романа: в уста бурлака вкладываются заветные и чрезвычайно сложные авторские мысли; герои романа вообще говорят то обиходно и грубо, то выспренно и книжно, и это нормальная примета всех поэм в прозе вроде “Доктора Живаго” с его народной речью из Даля. Правда, Осташа возражает Корниле: “С кержаками не так. Не та масть. Кержакам вера не дает человечий облик терять”. В том-то и дело, что вера достижима только в секте. Общей веры — нет. И эта народная трагедия — суть и стержень ивановского романа. Есть своя вера у пугачевцев, у кержаков, у сплавщиков. В России несколько народов, и никогда они между собой не договорятся. А тот, кто не согласен принадлежать ни к одному из них, — сеет вокруг себя ужас и гибель. Правда, в финале романа Иванов дал своему герою — и читателю — надежду: у Осташи и Нежданы родился сын, назвать его Осташа решил Петром, и на “сем камне” вроде как должна воздвигнуться новая Церковь. С Осташи, Нежданы и их сына должна начаться новая Россия, стоящая на твердой вере и абсолютной последовательности. В 1780-х можно было принять такой финал за утопический, но, зная последующую русскую историю, современный читатель скорее примет его за горькую авторскую насмешку: либо Осташа, Неждана и их последователи схоронились где-то очень глубоко в таежных тупиках и там построили Правильную Россию, либо у них тоже ничего не вышло, потому что не может быть общей веры у угнетателя и угнетенного, захватчика и захваченного, сплавщика и бурлака, солдата и кержака.
Что до главного фантастического допущения — а именно “истяжельчества”, искусства вытягивать из человека душу и помещать ее в безопасное место, — здесь Иванов загадочным образом совпадает с Людмилой Петрушевской, чей роман “Номер один” тоже написан на самом что ни на есть этнографическом материале, и загадочных слов там столько же, как и в “Золоте бунта”, если не больше. Вообще это совпадение двух крупных художников, чьи биографии, судьбы, воззрения и творческие стратегии столь различны, должно бы навести на интересные выводы: первая примета истины — то, что она в неизменном виде открывается столь разным людям. Петрушевская (цитируя, в свою очередь, пелевинскую “ДПП”) приходит к выводу о неискоренимом русском язычестве, о покорности магии, ритуалу, цифре — а вовсе не вере с ее моральным императивом. Веры потому и нет, что жители России ведут друг с другом (и с собственным государством) войну на истребление, — в таких условиях нереально изобрести национальную идею, которая объединила бы всех. Остается язычество с его темной природой, с его циклическим представлением об истории (собственно, русская история и остается циклической — почему роман Иванова и кажется столь актуальным, особенно если присмотреться к образу капитана Берга, “государственного человека”). “Вогулы ушли, да боги их остались”, — формулирует герой Иванова. Загадочное племя энтти из “Номера один”, живущее на Севере, обладает тем же даром — умеет переселять душу и прятать в безопасное место. Цель этого “истяжельчества”, или “метемпсихоза”, проста: переждать опасность, а то и смерть. В романе Петрушевской эта способность становится предметом торга, создается кооператив “Метемпсихоз”, в котором к матерям подселяют души обреченных детей. В романе Иванова главный идеолог истяжельчества, Гермон, объясняет свою задачу так: мир лежит во зле и катится к гибели (первейшая посылка всех сектантских учений) и выжить возможно лишь ценой утраты души. Приходится делать вещи с душой несовместимые. Надо научиться ее изымать, вручать на хранение жрецу, а самому действовать — без греха и страха. Потом можно душу вернуть, если только жрец не скормит ее вогульским бесам.