Стены Иерихона
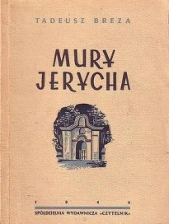
Стены Иерихона читать книгу онлайн
В книге "Стены Иерихона" действие происходит в канун второй мировой войны, автор показывает правящую верхушку буржуазной Польши 1926-1939 годов, дает точные социальные портреты представителей "санации", обнажает их эгоизм, нравственную нечистоплотность, интриги и личное соперничество, что привело Польшу к катастрофе 1939 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Ну объяснись же, - торопила она мужа, который решил, что нет у него другого выхода, кроме как схватить левую руку Ельского. Она растроганно посмотрела на мужа и призналась, но так, будто это был их маленький супружеский секрет: - Он ботинки менял.
И они стали в четыре руки тянуть его, но сами не знали куда.
Кушетки стояли у окон, около фортепиано неудобно, диван слишком близко к дверям. Прислуга все услышит! - вздохнул хозяин дома. И он как бы непроизвольно, беспомощно и в отчаянии опустил руки, поскольку в течение последних двадцати лет о тайнах они говорили в своей спаленке, да и речь-то там шла о помолвках барышень, если же Дикертам наносили визиты, они принимали гостей, как сейчас Ельского, в гостиной, официально, когда те приходили выразить соболезнования, а в таком случае умершим отдавали должное громким голосом.
- При каких обстоятельствах встречаемся! - Госпожа Дикерт больше не могла сдержаться и не застонать. - Сын в тюрьме.
Сколько же в волосах ее серебра! - подумал Ельский. Волосы хозяйки дома, пушистые, мягкие и непослушные, несмотря на все старания гребней, пышным седым облаком обрамляли голову, словно тюрбан из тумана. Она поднесла к глазам платок.
- Перестань, - успокаивал ее муж. - Пан Владислав все знает.
И слезы ее тут же куда-то исчезли, видно, это веки постарались, слез как не бывало. Дикерт полагал, что плакать уместно лишь в тот момент, когда кто-то узнавал об их горе, слезам надлежало показываться только в, ответ на первый порыв сочувствия, быть как бы взволнованной прелюдией, за которой должен следовать деловой рассказ.
- Да, да! - объяснила она то, как сама понимает сложившуюся ситуацию. Плакать мы умеем и наедине, но вот помочь сами себе не умеем. Может, вы будете так любезны.
Руки ее ухватились за длинную золотую цепочку с часиками, спускавшуюся с шеи. Она стала теребить ее пальцами и нервно подергивать. Муж посмотрел на нее. Госпожа Дикерт спохватилась, но спустя секунду принялась за бахрому своего халата, то распутывая ее, то завязывая узелки.
- Оставь, оставь, - нежно отвел он ее пальцы-так поступают с котятами, запрещая им теребить одежду. - Немножечко самообладания! - напомнил он ей.
И даже улыбнулся Ельскому, хотя улыбка на его печальном лице выглядела натянутой и неуместной, словно павлинье перо на монашеском капюшоне, ибо взгляд старика был жалким и растерянным, а сам он как-то необычно съежился.
- Плохо, видите ли, - сказал он, - плохо! - Тон его должен был показать, что старик смотрит на это дело как бы немного со стороны. Потом покачал головой. - Ну и натворил же он.
А она отвечала вздохами, казалось, будто только что бог весть откуда прибежала сюда к ним, оттого и одышка. Муж и это не одобрил. Сильно сжал ей плечо. Посмотрел на жену укоризненноудивленно.
- О, ты сегодня невыносима. - Он чуточку рассердился. И даже не за эти вздохи, а за то, что она проявляла свое беспокойство то так, то эдак. Что она еще выдумает?! Он смотрел на жену. - Нельзя так докучать собой людям, - проговорил Дикерт. ^
В действительности же его не волновали ни впечатлительность Ельского, ни даже соблюдение приличий, он тревожился о здоровье жены. Считал, что бурное проявление горя, словно быстрая езда, очень мучительно. В наш век, полагал Дикерт, надо и передвигаться, и страдать потихоньку. Разве кто-нибудь слышал, чтобы старый человек хоть раз закричал?
- Пожалуйста, пожалуйста, - говорил Дикерт Ельскому, показывая ему то на одно, то на другое кресло, и никак не мог решить, где им сесть. - Вот! - остановился он вдруг перед картиной Матейки. - Вот! - воскликнул он и, глядя в глаза Ельскому, принялся заговорщически кивать головой, потом нервно развел руками. - И ничего, ничего, - огорчился он.
- Из такого дома, - растолковала мысль мужа госпожа Дикерт. - Из дома, где в каждом углу произведения искусства и памятники нашей культуры, такой ребенок!
И старики, согласно тряся головами, в один голос произнесли:
- Страшно подумать!
А затем госпожа Дикерт уже одна прибавила:
- Так что же в таком случае творится в иных местах.
В конце концов старик плюхнулся на первый подвернувшийся ему стул, словно бы вдруг сообразив, что перед лицом такой катастрофы остальное не имеет значения, даже сохранение ее в тайне.
- Покой и уважение, - жаловался он, - единственное, что приберег себе человек на старости лет. И того в конце концов дети лишают.
Дикерт тупо уставился прямо перед собой.
- Холодно тут, ой, холодно! - Огляделся по сторонам, чем бы укрыться. Не беспокойся, - крикнул жене, - не стоит! - Но она не послушалась и засеменила за пледом.
Тогда Дикерт накинулся на Ельского.
- Бьют его, да. - Он стиснул зубы. Его бешенство выливалось в какое-то неожиданное брюзжанье. Но в то же самое время, опустив кончики губ, мягким тоном покорно соглашался с тем, что иначе и быть не может. - Но жене ни слова, молчок!
Он продолжал предостерегающе грозить Ельскому пальцем, хотя говорил о том, что жене его отлично было известно.
- Дома, видите ли, знали, куда идет дело. Но когда у нас что-нибудь случается, все думаешь, это теория. А здесь, понимаете ли, оказывается, и практика была. Нам представлялось, он только читал, знакомился. Как дошло до того, что он и сам стал действовать? Всегда так с детьми.
Он погладил руки жене, укутывавшей ему ноги, улыбнулся:
- У наших друзей тоже такое приключилось. Дочка их все сидела за письменным столиком с романом в руках.
- Ах, не болтай, - прервала его жена. А он фыркнул, но, кажется, не на нее, а на ту барышню.
- К черту! Родители тоже про нее думали, читает, мол, и читает. А там тоже на практике такие были романы!
Он все как-то не мог отвязаться от этих историй и сетований.
Ельский понял, что они познали его затем, чтобы спросить, не удастся ли как-нибудь все устроить, но ncu жалуются и жалуются, ибо для них возвращение сына из тюрьмы не перечеркнуло бы ни одного часа пребывания ею там. И Ельский чувствовал, они ждут от него не тою, что он вернет им сына, а того, что они получат сына таким, каким он был до прихода полиции.
- О родителях думаю I в последнюю очередь, - сморщил лоб Дикерт. - Они для них спасение, а не только близкое окружение.
Я не раз начинал разговор с сыном. Он не хотел. Всегда одно и то же: то увертки, то недомолвки. Будто я полицейский комиссар.
Однажды он сказал мне, дескать, не может забыть, что я был президентом города. Тоже мне крупная фигура!
Дикерт горько рассмеялся.
- Говорит мне такое дома. Спустя столько лет, и это мой собственный сын обращается ко мне с таким упреком. Ничего подобного ни от кого я не слышал в магистрате, пока был президентом. Все ко мне тогда относились как к отцу.
Тут он не выдержал и закричал:
- Согласившись на подобные отношения, на подобные отношения отцов и детей, господь бог рискует проиграть человека.
Ельский, чтобы утешить его, напомнил:
- У вас, господин президент, есть ведь еще дети.
Старик вскочил, плед сполз на пол, он подтянул его и набросил на себя, словно это была тога из верблюжьей шерсти.
- Нет, - закричал он, - нет. Когда теряешь ребенка, только тот и есть, которого теряешь.
По глазам Ельского ему показалось, что тот не верит ему.
Дикерт бросил на чашу весов всю силу своего убеждения.
- Да, да! - трясся он всем телом. - Хотя бы их у вас были тысячи!
Мать, по-видимому, считала, что есть и другие причины, по которым оба они были так привязаны к Янеку.
- Этот ребенок нам вообще немалого стоил. В детствесплошные хвори, весь был покрыт коростой. Два года болел.
Доктора, правда, находили его вполне здоровым, а у него и местечка на коже не было, которое бы не болело. Ни спать, ни сесть, ни опереться обо что. И все чесался, чесался. Вечно приходилось воевать с этими его руками. Всегда ухитрялся одну освободить. И давай сдирать с себя кожу.
Прикрыв глаза, она сразу все вспомнила, теперь взгляд ее был полон ужаса.























