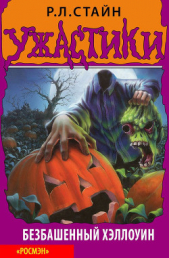Кража молитвенного коврика

Кража молитвенного коврика читать книгу онлайн
«А так-то грустно, батюшка, отвечал я ему, затрепетав от злобы, что я и тебя и себя теперь же вдавил бы в землю».
Многие, я знаю, считают, что Егор Летов — быдло. И поет для быдла. И слушает его, соответственно, быдло. Если бы у нас здесь, друзья, был сейчас диспут, я прежде всего попросил бы дать мне определение «быдла» — такое внятное, честное, полнозвучное определение на все случаи жизни. Чтобы я, значит, мог себя позиционировать.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Да, но что касается издательств, то я заврался. Мне не заплатили, и я понес. Издатели прочтут и обидятся. Вот, скажут, тебе твое корыто, ступай. А мы-то хотели… Не надо корыта! Я сейчас напишу как положено.
Во-вторых, всё не так ужасно. Перебирая гипотетические варианты, следует остановиться на наихудшем: тогда сразу уймешься и взвоешь от благодарности.
Потом, не чрезмерная ли наглость — требовать от людей совершенства, в котором отказано и праведникам? Даже общеизвестную кротость царя Давида омрачил ряд эпизодов из его личной жизни, но разве это повредило его же благочестию? Царь осознал и извинился (псалом № 50), а искупительная жертва — почему, кстати, Ф. М. Достоевский не оплакал и этого ребеночка? — он же еще маленький был, ничего не понял. Не стучал себя кулачком в грудь.
Нотабене. Но здесь работает и такой закон: много потребуешь — хоть немножко получишь; потребуешь мало — не получишь ничего или нечто такое, чего не надо. Заповеди соблюдаются, пока Моисей стоит с палкой наготове.
Я шел по улице, с подогретым гамбургером в руке, и мир расступался передо мной — не то что давал дорогу, а скорее брезгливо сторонился, как благочестивый от прокаженного. Затем в ход пошла щедрость: мир хлестал меня ветром, и жалил солнцем, и землей кусал мои ноги. Я шел мимо витрин, которые так приветливо манили издали, — и витрины отворачивались. Я шел мимо нищих, о которых никогда нельзя сказать, нищие они в действительности или работают нищими, — и нищие смотрели на меня во все глаза. Какая дрянь, думал я, Елена из «Накануне» — подававшая милостыню «заботливо, с невольною важностью, почти с волнением». На церковной паперти сидел еще не старый однорукий мужик с собакой; полубездомный ребенок, девочка-подросток, остановившись, гладила собаку. У девочки были маленькие пальцы, грязные короткие ногти, с которых сходил, отслаиваясь, какой-то невозможный лак. Она улыбалась.
Я преломил свой бутерброд и протянул мужику половину. Нищий нищему подает, сказал мужик дружелюбно. Возьми для собаки, сказал я, присаживаясь рядом.
Собака этого жрать не станет, сказал мужик. Это мы, люди, всё сожрем, а зверь имеет вкус. «Да?» — сказал я, оделяя собаку и девочку. Ничего, съели с большим аппетитом. «Где руку потерял?» — спросил я. «Когда в военкомат тащили», — ответил мужик равнодушно. Я заткнулся. Народ подле церкви суетился, туда-сюда; мы молча сидели под солнцем.
Нотабене. Не путать слабоумие и святость.
«Удивительно приятное занятие лежать на спине и смотреть вверх».
«Записки охотника»
Я сел, протер глаза и попробовал потянуться. Где она, легкость во всем теле, которой у меня никогда не было? Глаза старательно моргали, но ничего не видели. Руки прилежно ощупывали, но не находили. Беда, подумал я, беда. Началось.
Было темно, жестко, гладко, холодно. Покрутившись, я понял, что лежу в пустой ванне. «Надеюсь, что в своей», — прошептал я. Я стукнулся головой о полку. Да, в своей. И голова — своя не своя, но на месте.
Кое-как я поднялся, включил свет. На колене обнаружились здоровый синяк и ссадина, на полу — брошенная одежда. Из стакана с зубной щеткой торчала записка. «Если ты будешь звонить, но колокола под рукой не окажется, делай это по цифрам». Следовал номер телефона и имя. Очень красивое имя, мое любимое — только вот знакомых с таким именем у меня не было.
Я вздохнул, поднял глаза к зеркалу и обомлел. Обомлел. Нос-то был, нос даже как-то увеличился. Не было плеча.
В юности я целый месяц протрудился в музее «Домик Лермонтова» и показывал экскурсантам, помимо прочего, столик (сто пудов фальшивый), за которым классик писал. Но экскурсантов больше интересовало, где классик писал (потому что в домике ничего такого, вплоть до ночного горшка, не было), о чем самые смелые меня и спрашивали. Да вон прямо с крыльца, нагло отвечал я. Смотрите, какой тут когда-то открывался вид на закат. В самом деле, я-то откуда знаю, как и где они сто пятьдесят лет назад мочились. Может, даже была мода на номадские нравы.
Это я к тому, что забота о правдоподобии не всегда необходима. Начни я сейчас на этом голом месте морочиться, объяснять, как там торчат или не торчат кости и сосуды, к чему приделана и почему не отваливается рука — что выйдет из такой затеи? Х…. выйдет, роман в модном духе; курс лекций по анатомии прилагается. А в финале, конечно, будет очень правдоподобно объяснено, что пропала не жизненно важная часть тела, а зрение или рассудок. Для тех, кто размечтался.
Но плечо, думал я, почему плечо? При чем тут плечо? Не хочу быть Пелопсом, у него в роду все ненормальные: отец, детишки, сплошь насильники, кровосмесители, дето-, брато- и отцеубийцы, и так до правнука, Ореста, тоже не с одним пятном на репутации. Если бы еще как Пифагор, у которого однажды, когда он разделся, увидели золотое бедро… Всё же люди не мелочились: слоновая кость, золото — какой материал шел на протезы! А мне светит разве что опыт того медведя, который сделал себе липовую ногу.
Один древнегреческий мужик красоту и добро считал чуждыми друг другу. По пути добра удобнее скакать на липовой ноге, потому что прекрасное неразумно и в силу этого: а) имморально, б) не обязано искать, воплощать и стеречь истину. Красота и добро не могут быть причиной и следствием (в любом порядке) друг друга, но что происходит, когда раз в сто лет они встречаются в одном неделимом человеке? Чрезмерность совершенства, избыток, которым давятся окружающие. «Не жирно ли одному, два самых драгоценных подарка от богов?» — ропщут обделенные любыми дарами. Или, к примеру, ум и красота: их еще как-то терпят воплощенными в разных людях, на худой конец — в паре, но их сочетание кажется чудовищной несправедливостью и нарушением предустановленной гармонии. Что-то одно (а лучше — и то, и другое) приходится отрицать и как убогого жалеть того, кто слишком хорош. Однако не следует думать, что это делается осознанно. Между интеллектуальной добросовестностью и добросовестным ослеплением инстинкт самосохранения выбирает безошибочно. С чем, кстати, связана и проблема хорошего вкуса, который во все времена является чем-то мифическим. Все его взыскуют, но то, что у кого-то он действительно был, выясняется только над могилой обладателя. Совершенства не нужно бояться, совершенство не должно отпугивать — кто удержит равновесие на таких качелях?
«Застенчивого, робкого и страшливого ребенка надлежит всячески стараться ободрять ласковыми поступками».
Какое воздействие могут оказать книги, прочитанные в объеме титульного листа? Неуслышанная музыка, неувиденные фильмы, люди, с которыми так и не встретился, идеи, о которых так и не узнал? В чем суть формата любого телеканала, любой радиостанции? Полудебилов превратить в дебилов законченных, а потом сказать: этому зрителю, слушателю нужна именно такая дрянь, по убогим его уму и запросам. Пусть жрет. Нам ведь тоже надо детей кормить. Это логично. Но тогда нелогично переживать, если у детей костью в горле застрянет светлое будущее, с требованием оплатить прошлые обеды и, заодно, беззакония родителей.
Считается, что проще противопоставить природе атомный реактор, чем обычай учить классические вирши и каждый день надевать свежую рубашку. Не делайте лишних движений, говорит современность, ограничьтесь необходимым. Необходимым будет что угодно, от пейджера до парламента, но, уж конечно, не какой-нибудь древний бряцающий язык. Когда появляется возможность объявить что-нибудь лишним, лишним объявляется то, что потруднее. Крепнет подозрение, что демократия вообще, как форма политического устройства, — наихудший вид тирании. Любой солдатский император выглядит благопристойнее афинских граждан, потому что требует покорности, а не любви, потому что руководствуется личными корыстью и прихотью, а не популяризованной справедливостью. Любое большинство всегда и совершенно искренне хочет смерти Сократа. Демократия — это интеллектуальная бойня, и бойня обычная, то, что у нас называют тоталитаризмом, — ее логическое следствие. Лучшие — самые умные, талантливые, красивые, необычные — нежизнеспособны; их легко истребить, и именно на такое истребление направлен здоровый инстинкт масс. Однако то, что слабо само по себе, может порождать силу: те железные связи мироздания, которые сейчас порядком проржавели, все ж еще как-то что-то держат.