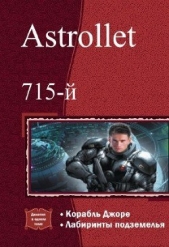Летящий и спящий (сборник)

Летящий и спящий (сборник) читать книгу онлайн
Генрих Сапгир известен читателям как поэт, детский писатель, автор сценариев популярных мультфильмов. Настоящую книгу составила преимущественно его проза — легкая, ироничная, эротичная и фантасмагорическая. Включенные в издание поэтические тексты близки рассказам по поэтике и настроению, составляют с прозой стилевое единство. В целом книга являет собой образец гротескного письма в литературе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но через месяц этот праздник наедине с собой начал постепенно надоедать. Он почувствовал, будто его обокрали: было столько всего интересного и вдруг ничего не стало. И никто не лезет. Даже обидно.
Рассказывают, размагниченный стал бегать за всеми женщинами на службе. Но те на него глядели с большим изумлением, тем более замужние женщины. И он перестал. Кажется, кого-то попытался изнасиловать в своем подъезде. Дело кончилось скверно. Ему набили сумочкой физиономию, кожаной, с медными застежками.
С расцарапанным лбом и распухшей щекой он пришел к тому экстрасенсу, который его размагнитил, и слезно за большие деньги просил намагнитить опять. Экстрасенс пробовал, ставил его на стул вверх ногами между Землей и Венерой, ввергал в транс эротических воспоминаний. Нет, говорят, пока не получается.
Совсем свихнулся статистик. Видели, как он блуждает ночами по темным улицам и, протягивая руки к Луне и звездам, умоляет:
— Верните мне мой магнит.
ТЕ, КОТОРЫЕ
Сегодня я совсем другой — утренний разумный. А такой ли я был вчера? Куда-то порывался. Весь суетился, горел, мысли толклись, как цыплята в коробке. Даже машину из гаража выкатил. Будто меня кто-то где-то ждет и совершенно необходимо то ли выручить из беды, то ли просто увидеться. Не знаю, может, я и уехал вчера в другой город, и осталось здесь от меня одно воспоминание.
А два дня назад — куда-то бежал, торопился под дождем, даже в драку ввязался, вот синяк на скуле, а домашние говорят, весь вечер из дома не выходил.
Часто вижу я себя со стороны, особенно в различных учреждениях, за стеклом, в кожаных креслах, у телефона. Кожей, лаком и пластиком благородно пахнет. Сделки какие-то заключаю и, кажется, успешно. Вот в руках шелковисто шевелится темное шевро — бумажник. А посмотришь — ничего нет. И вообще я сейчас с электрички березняком иду.
Все-таки, возможно, происходит со мной нечто, чего я и сам не замечаю. И решил я за собой проследить.
…Раздался, будто разбудил, телефонный звонок. Спокойно, не торопясь, снимаю трубку: она! ее голос!
…И сразу очутился там — среди компьютеров, столов и чайных чашек. Прохладно здесь всегда, темные коробки кондиционеров уродуют окна.
И я, тот, который очутился там среди компьютеров, столов и чайных чашек, увидел: она, естественно, говорит по телефону. Но другая она — еще туманная — наклонила голову, приподняла ресницы, заметила меня и отделилась от говорящей. Проясняясь, обретая свои черты: милый высокий лоб, знакомо блеснули глаза, эта мягкая ирония — порывисто устремилась навстречу.
Я, «тот который», подался назад — в коридор. Нехорошо, если сослуживцы обратят внимание на некую, я бы сказал, невозможность происходящего. Одна Вера говорит по телефону, а другая Вера у двери любезничает с незнакомым мужчиной.
Не говоря друг другу ни слова, мы быстро прошли в дальний конец коридора, завернули в темный тупичок-курилку: никого.
Она обняла меня и прижалась всем телом, как в прошлый раз. Затылком понимал, сзади могут появиться. Но уже не оборачиваясь, не озираясь, не понимая, кто мы, что мы, где, мы были одним: губами, узнающими другие губы, языками, нетерпеливо сплетающимися и вытесняющими друг друга, нёбо было готово к зачатию…
— Извини, меня зовут. Срочно. Потом позвоню. Прости.
Вот и поговорили. Даже свидание не успели назначить. А те все еще горели и трепетали — и губами, и языками, и душой, не понимая, как могли их оторвать от общей чаши…
Надеюсь, мы «те которые» успели вернуться. Потому что едва я положил трубку, мысли мои отвлеклись. Из меня выпорхнул «посланец» и, соответственно помолодев, унесся в далекое прошлое, когда другие мы «те которые» едва познакомились.
ГОРОД ВОЖДЕЙ
В старом и туманном Санкт-Петербурге, в окрестных его болотах еще бродит зловещий призрак вождя.
Когда осенней хлябистой ночью идешь по его прямым бесконечным улицам, припозднившись, возвращаешься из гостей и не знаешь, куда идешь, — трамвая давно нет, машины, обдав тебя душем холодных брызг, с визгом проскакивают мимо — и уже кажется, идешь совсем не туда и никогда не придешь, куда тебе надо; может быть, и не надо уже никуда брести в башмаках, полных воды, а забраться сейчас в любой подъезд, подняться по темной лестнице на чердак и прикорнуть там среди сухого и теплого войлока и мелкого шлака до утра, пусть стучит, пусть грохочет, пусть гремит ржавым листом железа — не доберется, и уже совсем сворачивая не туда и понимая, что сворачиваешь не туда, вдруг где-нибудь на маленькой площади или просто в сквере высоко над мокрым желтым кустарником увидишь силуэт человека с указующей вдаль рукой: вот куда надо идти; проблуждав так еще с полчаса и поняв, что все равно идешь наугад, выйдешь на маленькую площадку перед огромным домом, где опять — он.
В руке зажата бронзовая кепка — вождь уверенно показывает тебе дорогу, но в другую сторону — и чертыхаясь про себя, как бедный Евгений, — ты ведь еще и принял водки в гостях — ты идешь в ту сторону — может быть, он, как всегда, прав и указывает верный путь, хотя бы к стоянке такси, но твой длинный путь под длинным дождем вдоль очень длинных желтых зданий начала прошлого века приводит тебя только к очередному двойнику, который указывает тебе путь своим указателем совершенно в другую сторону, туда, где в тупике, уютно прислонившись к стене, стоит маленький, покрашенный серебряный вождь и показывает определенно — назад.
Так они водят, водят тебя по ночному пустынному городу, и кажется: никого живого, только они, памятники, живут в нем и передвигаются перед тобой, здесь чужим и едва терпимым; город кружится, как огромная сцена — то большая фигура, то малая, то бюст, то торс (голову еще не поставили или отбили), то в руке кепка, на голове — другая, то малыш, одетый как девочка, но с характерным преувеличенным лбом — и ты, совсем растерявшись, присаживаешься на влажную решетчатую скамью и вдруг обнаруживаешь себя лицом к лицу с Маяковским.
Сначала ты не веришь: неужели эта черная базальтовая голова — не его голова, тоже ведь лысая, как колено, — но это голова Владим-Владимыча — а раз это голова Маяковского, то рядом улица Некрасова и твоя обитель — служебный вход в театр, на пятом этаже гостиница для актеров.
…И, уже поднявшись, чтобы идти, я вижу под памятником какой-то черный ворох — ворох поднимается, под ним бледное личико не то девочки, не то старушки. Из под вороха выпрастывается тоненькая спичка-ручка (в свете фонаря блестит бутылка) — и девочка-старушка делает несколько глотков. Глотки длинные, как те здания начала девятнадцатого века, вдоль которых я шел. Она глядит на меня темными серьезными глазами — и я вижу, что она совершенно пьяна.
— Хочешь выпить? — предлагает она. И тут же без всякого перехода. — Дуфак, шифофреник, свистофуля (тут она назвала фамилию известного писателя), прогнала, пусть уфирается… уфефетывает в свое Фомарово… Эфектрички, видите ли, не ходят… эффектно, эффектно… — (Нарочно или такой дефект речи? — не могу понять.)
И далее ее пузырящееся бормотание отодвинуло время назад — и я увидел себя перед дверью в Дом литераторов, входящим вслед за этой странной парой: она и дуфак.
Мраморные ступеньки, закутки гардероба, тетеньки в синих халатах — все пыльное, полузабытое, вытащенное из какого-то реквизита — и, увы, продолжающее служить. И эти чудовищные, много пьющие посетители — бог знает, что творится у них в мозгах — их тщеславие тоже из бабушкиного сундука, давно сложенная материя, пожелтевшая на сгибах, которая если и разворачивается, то для того, чтобы опять сложить ее в зеленый сундук, обитый крест-накрест жестяными золотыми полосками.
В тесной передней стоял — с каких времен? — Маяковский, особенно неповоротливый и большой — гипсовый. Почему он здесь стоял, никому было не ясно, да никто из писателей не задавался этим вопросом. На дворе была советская власть, значит, в холле стоял Маяковский, вот и все. Его так должны были не любить в этом доме, но он настоял на своем уже давно — и все сделались более чем равнодушны. Его просто не замечали. И боюсь, скажи кому-нибудь из питерских: а как у вас там Маяковский в Доме литераторов, на тебя посмотрели бы с недоумением: какой Маяковский?