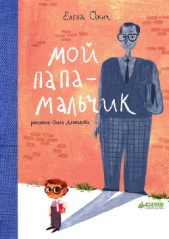День денег

День денег читать книгу онлайн
С чего начинается день у друзей, сильно подгулявших вчера? Правильно, с поиска денег. И они найдены – 33 тысячи долларов в свертке прямо на земле. Лихорадочные попытки приобщиться к `сладкой жизни`, реализовать самые безумные желания и мечты заканчиваются... таинственной пропажей вожделенных средств. Друзьям остается решить два вопроса. Первый – простой: а были деньги – то? И второй – а в них ли счастье?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Чтобы владелец денег тут же узнал, где они, и убил бы нас со злости? – спросил Парфен.
– Кстати… – начал Писатель, но Парфен уже понял.
– Не выйдет! В бумажнике, кроме денег, никаких сведений о владельце. Как искать? Развесить объявления? «Кто потерял бумажник с долларами, обращаться по такому-то адресу»?
– Ребята, да хватит вам! – сказал Змей. – Давайте лучше поговорим, кто что с деньгами сделает! А?
Это было, действительно, интересно, это напоминало детские их разговоры о том, кто что сделал бы, если б у него была волшебная палочка, которая может выполнить три желания. Помнится, Больной, шибко умным не считавшийся, всех обхитрил, сказав: «Первое мое желание: чтобы у меня в руках оказалась другая палочка, чтобы она выполняла все желания!» На его хитрость обиделись и дали ему даже за нее пару пинков: игру испортил.
– Ну? Ну? – подбадривал Змей. – Давай, Хухарь, начинай, ты писатель или нет?
Писатель задумался.
– Тогда ты, Парфен!
Задумался и Парфен.
– Ну, тогда я! – сказал Змей, выпил еще чуточку, и начал: – Во-первых, я… – и зашустрил глазами по стенам, словно ища подсказки.
И тоже – задумался.
Глава восьмая,
в которой Змей думает о том, что перво-наперво надо вставить зубы, приодеться, одеть также маму, произвести ремонт в квартире, потом зашиться как минимум на три года, потому что пьянствовать надоело уже, хотя, впрочем, сперва надо от души и в охотку попьянствовать, чего сроду не удается сделать, поездить шикарно одетым на такси по ночному городу, снять шикарную проститутку, но тут Змей вспомнил, что женщины у него давно не было и он не уверен, что сумеет быть мужчиной даже с проституткой; чтобы определить, мужчина он или нет, надо хотя бы недельки две пожить совершенно трезвым, но зачем после этого проститутка, если можно познакомиться с хорошей женщиной, и тут Змей вспомнил о своей жене, которую не видел пятнадцать лет (он ведь был женат!), и о дочери, которую не видел столько же (а ей семнадцать уже!), он подумал, что хорошо бы взять и прийти к жене и дочери в блеске богатства и сказать: «Вот я теперь какой, идите со мной жить!» – но тут же понял, что прошлого не вернуть, что любовь к жене давно угасла (да и не было ее), что дочь свою он дочерью уже не почувствует, он понял с беспощадной ясностью и с силой на миг протрезвевшего ума, что все будет очень просто: получив свою долю, он будет пить, пить и пить, пока не кончатся деньги или пока не подохнет, причем второе вероятней, и даже если он успеет приодеться сам, приодеть маму и сделать ремонт в квартире, пьянства все равно не избежать, пьянства при этом опасного, ибо он не знает таких больших денег, он будет метать их направо и налево, и кто-то, хищный и подлый, углядит это и убьет его за деньги, то есть, как ни крути, куда ни брось взгляд, всюду тупик, всюду непременная гибель
– А черт его знает! – сказал Змей. – Даже как-то и не сообразишь…
Тут дозрел Парфен. Выпив толику, он скрестил руки на груди.
Глава девятая,
в которой Парфен намеревался произнести речь о том, что хватит ему быть прислужником власти, пусть и ерничающим, над этой властью издевающимся; он, Парфен, как всякий русский человек, способен на многое, не на одну только устную и письменную болтовню, он эти деньги пустит в дело, уж ему-то известно, в какое именно дело можно пустить деньги; через год, нарастив капитал, он откроет дело собственное, через два расширит его и станет одним из самых крупных производителей Поволжья, он возьмется за то, за что сейчас боятся браться все: за тяжелое машиностроение, он будет поставлять на отечественный, а потом и зарубежный рынки первоклассные высокопроизводительные станки и автоматические линии, но это только первая ступень, далее, поручив производство своим верным помощникам, он ринется в политику; средства позволят ему раскрутить себя на всю страну, через три года он уже – виднейший политический деятель, руководитель им же созданной партии, она будет называться, например, Партия Единства Народа (ПЕН), к очередным президентским выборам он станет всем очевидной главной кандидатурой на пост президента, и Парфен уже оттуда, с высот того будущего, усмешливо взирал на убогое свое недавнее прошлое с сухопарой женой-интеллектуалкой, е. е. м., к. с., с наглым насмешником-сыном и его, сына, недалекой и задирающей курносый нос женой, в этом гадком пыльном городе, а с ним рядом, на этой высоте, будут юная жена с матовой кожей лет двадцати пяти и сынишечка-карапуз, с малолетства обожествляющий папку, и вот он сидит в кресле, отдыхающий от восемнадцатичасового рабочего президентского дня, и на руках у него сынишечка, а на плече прелестная головка жены, но тут Парфен вспомнил вдруг, что это было уже у него: и прелестная головка жены Ольги, и сынишечка любимый на руках был, что ж получается? – президентство ему понадобится лишь для того, чтобы войти в одну и ту же воду? – но это неразумно, да и не любит он политику, не хочет он ее, а хочет он, если признаться себе честно, того, чего никакими деньгами не купишь: вернуться в свою молодость
Парфен опустил руки и потянулся к бутылке.
– И это все? – спросил Писатель.
– Отвали! – огрызнулся Парфен. – Куда мне поперек батьки в пекло! Давай уж, мастер художественного свиста, покажи пример!
– Не собираюсь.
Глава десятая,
в которой Писатель действительно не собирался обнародовать свои мечтания, потому что слишком интимны они были – и слишком, так сказать, профессионально-специфичны, так как он лгал, говоря, что с наслаждением пишет коммерческие романы, а художественные писать не хочет, на самом же деле он, как всякий нормальный человек его занятия, устал от безвестности, которая гораздо хуже непризнанности (непризнанность явления всегда можно списать на тупость тех, кто явление не признает, но как быть, если явления этого не видать как такового?), устал, главное, от ожидания жены, хотя это ожидание чистосердечно (так ему кажется, но мы знаем кое-что и другое!), хотя только оно его и поддерживает, и как было бы славно на эти одиннадцать тысяч долларов его доли выпустить в простенькой обложке и на простенькой бумаге, тысячным тиражом, трехтомник избранного, который не сможет, просто никак не сможет не заметить критика, в конце концов, всем известна история Маркеса, «Сто лет одиночества» которого начинались с трех тысяч тиража в провинциальной типографии; но тут же – даже пот выступил на лбу и на ладонях – Писатель подумал, может быть, впервые, а вдруг художественные его тексты не столь уж художественны? – и это ему докажет безоговорочно и с цитатами в руках критик из тех, кого он уважает; но нет, этого не может быть, он объективно читает и себя, и других и видит, что может зашибить многих своим талантом, с другой стороны (или уже с третьей, с четвертой?), трехтомник этот станет итогом, финалом, после которого, в сущности, ложись да помирай, и он будет торопиться доказывать, что нет, он не кончился, будет писать четвертый том – хуже, пятый – еще хуже, но уже найдутся критики, берущие каждую его строку под защиту, он зажиреет, станет подозрительно-самоуверенным и неуверенно-самодовольным; желая подтверждений перемены своей участи, он бросит жену и переедет в Москву, там закрутится, завертится, не имея ни родных, ни близких, соглашаясь на экранизации своих романов, летая в дальние страны, которые хороши лишь в молодости, и вот в одной из таких поездок, где-нибудь в вольно-вальсовой вальяжной Вене он будет лежать в гостинице, ночью, и помирать от сердечного приступа (сердце и сейчас покалывает, подлое!), не умея позвать на помощь, потому что ни черта не знает по-немецки, равно как и по-английски, ибо, несмотря на Литературный институт и брак с интеллектуалкой, остался все-таки недоучкой, поверхностным самообразованцем, выскочкой, глухим провинциалом…