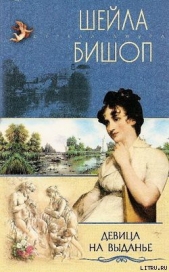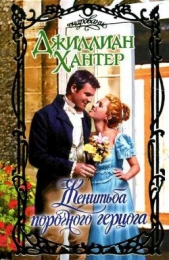Возможность острова

Возможность острова читать книгу онлайн
«Возможность острова» — новый роман автора мировых бестселлеров «Элементарные частицы» и «Платформа». Эта книга, прежде всего, о любви. Сам Уэльбек, получивший за неё премию «Интералье» (2005), считает её лучшим из всего им написанного. Заявив в одном из интервью, что он «не рассказчик историй», Уэльбек, тем не менее, рассказывает здесь, в свойственной ему ироничной манере, множество нетривиальных историй, сплетающихся в захватывающий сюжет: о тоталитарных сектах, о шоу-бизнесе и о судьбе далёких потомков человечества, на которую проецируются наши сегодняшние эмоции и поступки. Установив своеобразный телемост между прошлым и будущим, Уэльбек переворачивает современные представления об устройстве мира. Главный герой, эстрадный артист, сначала успешно выступает со скетчами собственного сочинения, затем столь же успешно снимает порнофильмы. Власть над стремительно растущей аудиторией побуждает его анализировать состояние умов и пускаться на рискованные эксперименты. Из этих экспериментов вырастает второй план книги — фантастический, на удивление гармонично сплавленный с жёсткой реалистичностью первого.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В первом пункте он был прав: упоминание моего имени в титрах трех десятков фильмов, где я участвовал в качестве сценариста, соавтора сценария или просто консультанта, ни на йоту не прибавило мне популярности; зато второе оказалось сильным преувеличением. Я очень скоро убедился, что кинорежиссёры — народ незатейливый: им достаточно подкинуть идею, ситуацию, фрагмент сюжета, что угодно, до чего они бы сами сроду не додумались; потом добавляешь несколько диалогов, три-четыре дурацких остроты — я мог выдавать примерно по сорок страниц сценария в день, — представляешь готовый продукт, и они в экстазе. Дальше они только и делают, что меняют своё мнение обо всём: о самих себе, о производстве, об актёрах, о черте с дьяволом. Достаточно ходить на рабочие совещания, говорить им, что они совершенно правы, переписывать сценарий по их указаниям, и дело в шляпе; никогда ещё я не зарабатывал деньги с такой лёгкостью.
Самой большой моей удачей в качестве главного сценариста стал, безусловно, «Диоген-киник»; по названию можно предположить, что речь идёт об историческом костюмном фильме, но это не так. В учении киников существовал один пункт, о котором обычно забывают: детям предписывалось убивать и пожирать собственных родителей, когда те утратят способность к труду и превратятся в лишние рты; нетрудно представить, как это ложится на современные проблемы, связанные с ростом числа пожилых людей. В какой-то момент мне пришло в голову предложить главную роль Мишелю Онфре [14], который, естественно, с энтузиазмом согласился; но этот жалкий графоман, так вольготно чувствующий себя перед телеведущими и безмозглыми студентами, перед камерой совершенно сдулся, из него невозможно было вытянуть ничего. Съёмки благоразумно вернулись в накатанное русло: заглавную роль, как всегда, сыграл Жан-Пьер Мариель.
Примерно в то же время я купил виллу в Андалусии, в совершенно дикой зоне к северу от Альмерии, носящей название «Природный парк Кабо-де-Гата». Архитектор действовал с размахом: пальмы, апельсиновые сады, джакузи, каскады; с учётом климатических особенностей (это самый засушливый регион Европы) его замысел отдавал лёгким помешательством. В придачу, о чём я даже не подозревал, это оказался единственный район на испанском побережье, куда ещё не проникли туристы; через пять лет цены на землю здесь подскочили втрое. В общем, я в те годы несколько смахивал на царя Мидаса.
Тогда же я решил жениться на Изабель; наша связь длилась три года, как раз среднестатистический срок добрачных отношений. Церемония была скромная и немного грустная; ей только что исполнилось сорок. Сейчас я чётко понимаю, что два эти события взаимосвязаны, что мне хотелось этим доказательством своих чувств немного сгладить для неё шок сорокалетия. Он у неё не проявлялся в каких-то определённых формах: она никогда не жаловалась, вроде бы ни о чём не тревожилась; это было что-то неуловимое и в то же время душераздирающее. Временами — особенно в Испании, если мы собирались пойти на пляж и она натягивала купальник, — я чувствовал, что, когда мой взгляд останавливается на ней, она чуть оседает, как будто её ударили под дых. На миг гримаса боли искажала великолепные черты её тонкого, выразительного лица — его красота словно была неподвластна времени; но на теле, несмотря на плавание, несмотря на классический танец, появились первые признаки приближающейся старости, признаки, которые (кому это знать, как не ей) скоро начнут быстро множиться, вплоть до окончательной деградации. Я не мог понять, что отражалось на моём лице, что заставляло её так страдать; я бы многое отдал за то, чтобы она ничего не замечала, потому что, повторяю, я любил её; но это явно было невозможно. Как невозможно было твердить ей, что она по-прежнему желанна, по-прежнему красива; я никогда не мог ей лгать, даже в мелочах. Я знал, как она потом смотрела на меня: это был покорный, печальный взгляд больного животного, которое отходит на несколько шагов от стаи, кладёт голову на лапы и тихо вздыхает, потому что чувствует признаки близкой смерти и понимает, что не дождётся жалости от сородичей.
Даниель24,З
Скалы высятся над плоскостью моря своей абсурдной вертикалью, и страданию людей не будет конца. На первом плане я вижу утёсы, чёрные и острые. За ними, чуть поблёскивая пикселями на поверхности монитора, раскинулась мутная, грязная поверхность, которую мы по-прежнему называем «морской» и которая когда-то была Средиземным морем. На переднем плане появляются человеческие существа, они идут по тропе вдоль утёсов, как и их предки много веков назад; только теперь их меньше и они грязнее. Они упорствуют, пытаются сбиться вместе, образуют стаи или орды. Их прежнее лицо превратилось в красную, ободранную, голую плоть, изглоданную червями. Они вздрагивают от боли при малейшем ветерке, несущем с собой песчинки и семена. Иногда они кидаются друг на друга, дерутся, ранят один другого кулаками или словами. Постепенно то один, то другой отделяется от группы, замедляет шаг, падает навзничь; его спина, белая и эластичная, пружинит при соприкосновении со скалой; они похожи на перевёрнутых черепах. На голую, открытую небу поверхность плоти садятся насекомые и птицы, расклевывают и пожирают её; существа ещё какое-то время мучаются, потом затихают. Остальные держатся поодаль, целиком поглощённые своими стычками и хитростями. Время от времени они подходят поближе, взглянуть на агонию своих сородичей; и в их глазах не отражается ничего, кроме пустого любопытства.
Я выхожу из программы наблюдения; изображение исчезает, втягиваясь в панель инструментов. Получено новое сообщение от Марии22:
247, 214327, 4166, 8275. Вспыхивает свет, он разгорается, ширится, и я погружаюсь в световой туннель. Я понимаю, что чувствовали люди, когда входили в женщину. Я понимаю женщину.
Даниель1,4
Мы люди, а потому нам подобает не смеяться над несчастьями человеческими, но оплакивать их.
Изабель сдавала. Не так-то легко женщине, чьё тело уже увядает, работать в журнале вроде «Лолиты», где что ни месяц всплывают все новые шлюшки, ещё более юные, сексапильные и наглые. Помнится, первым заговорил я. Мы шли по скалистому гребню Карбонерас; чёрные утёсы отвесно уходили в сверкающую ярко-синюю воду. Она не увиливала, не искала отговорок: да-да, конечно, при такой работе нужно поддерживать атмосферу некоторого конфликта, нарциссического соперничества, а ей с каждым днём все хуже это удаётся. «Жизнь изгаживает», — замечал Анри де Ренье; нет, жизнь прежде всего изнашивает: безусловно, есть люди, которым удаётся сохранить в себе неизгаженное ядрышко, ядрышко бытия; но что значит этот жалкий осадок по сравнению с изношенностью тела? — Придётся обговаривать размер выходного пособия, — сказала она. — Не понимаю, как я смогу это сделать. К тому же журнал идёт в гору, не вижу, под каким предлогом мне проситься в отставку.
— Пойди к Лажуани и объясни. Просто скажи ему то, что сказала мне. Он уже старик, я думаю, поймёт. Конечно, у него есть деньги и власть, а эти две страсти угасают не так быстро; но, судя по тому, что ты о нём говорила, он понимает, что такое износ.
Она так и сделала, и её условия были безоговорочно приняты; надо сказать, что журнал был обязан ей практически всем. Что до меня, я пока не мог оставить сцену — в смысле оставить окончательно. Мой последний спектакль со странным названием «Вперёд, Милу!» [15] В поход на Аден!» имел подзаголовок «100% ненависти»; надпись как бы перечёркивала афишу, примерно как у Эминема. И это не было преувеличением. С первых же минут я препарировал тему ближневосточного конфликта — которая уже не раз приносила мне успех в массмедиа, — каким-то, по выражению «Монд», особенно «кислотно-щелочным» способом. Первый скетч назывался «Битва букашек»: в нём действовали арабы — «клопы Аллаха», евреи — «обрезанные блохи» и даже ливанские христиане, которых я наградил забавным прозвищем «вши лона Марии». В общем, как отмечал критик «Пуэн», все три религии Великой книги положены «на обе лопатки» — по крайней мере в скетче; дальше в спектакле шла уморительная сценка под заглавием «Палестинцы смешны», где я изощрялся в бурлескных, сальных аллюзиях на колбаски с динамитом, какие шахидки из ХАМАС обматывали вокруг талии, чтобы приготовить паштет из евреев. Затем я, обобщая, начинал регулярное наступление на все формы сопротивления, национальной или революционной борьбы, а по сути — на политическую деятельность вообще. Конечно, все шоу было выстроено в духе правого анархизма, типа «выдающийся член партии», породившего шедевры франкоязычного юмора от Селина до Одиара [16]; но я шёл ещё дальше, прилагая к современной ситуации слова апостола Павла, учившего, что всякая власть от Бога, и временами поднимаясь до мрачной медитации, от которой уже недалеко было и до христианской апологетики. При этом я, естественно, избегал любых отсылок к богословию: моя аргументация была почти математически строгой и строилась главным образом вокруг понятия «порядок». Короче, спектакль получился классический, и его с самого начала признали таковым; это был, безусловно, мой самый большой успех у критики. По общему мнению, мой комический дар никогда ещё не возносился так высоко — или, как вариант, — не падал так низко, что означало примерно одно и то же; меня часто сравнивали с Шамфором [17], а то и с Ларошфуко.