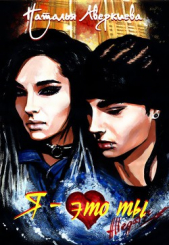Пой, скворушка, пой

Пой, скворушка, пой читать книгу онлайн
Петр Николаевич Краснов родился в 1949 году в селе Ратчино, в Оренбуржье. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, работал агрономом. В 1978 году после выхода первой книги "Сашкино поле" принят в Союз писателей. В 1983 году окончил Высшие литературные курсы. Рассказы и повести публиковались в журналах "Наш современник", "Дружба народов", "Молодая гвардия", "Литературная учеба", "Москва", "Новый мир" и во многих других периодических изданиях, коллективных сборниках. Постоянный автор нашего журнала.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Смута русская — это когда все предали всех, сверху и донизу. Что-то вроде изначальной формулы это было у Гречанинова, вроде ответа — если не на все, то на многое. И демобилизованный в любом идейном отношении русский, говорил, это дрянь человек, хуже не знаю, не видел. Все тогда самое худшее вылезает из него на свет Божий, легализуется им самим по факту, и первое безответственность безбрежная, какую вечно он со свободой путает, с волей… И растолковывал: без идеи своей — религиозной, социальной, какой ли, но своей, — как без иммунитета он, а потому любая к нему зараза липнет, делай из него что хочешь тогда…
Они весной девяносто второго сошлись, когда вовсю уже шли бои, а Василий вместе с двумя уральскими казаками на подмогу прибыли и прямо с ходу в боевое угодили охранение, успев лишь чемоданы в казарму забросить и старенький натянуть камуфляж, оружье получить. Чем-то вроде воюющего политрука был Гречанинов в их сборном батальоне ополченцев и казаков, а вернее — полуторасотенном, с бору по сосенке, отрядишке; и Василий, если честно, не вполне понимал, что в нем, недоучке, нашел этот самый, может, умный человек изо всех, с кем приходилось быть и жить, одно дело делать. Но вот нашел же, и все полтора года бок о бок как братки, всё вместе, в общагах ли, окопах. "Куда вину свою денем, мужики?! Это ж мы дали подонкам развалить все, что сами, что отцы-деды строили… отмолчаться, отсидеться думали? Хреново думали. Теперь одно только нам осталось: стоять где стоим. Чтоб на место, где мы стояли и смерть приняли, враг не сразу осмелился ступить хоть на время какое-то, хоть на день… Потому что ни тылов у нас, ни резервов нету, ни стратегии никакой, а лишь тактика, единственная: смертники не наступают — останавливают. Врага, который куда как сильней — зло останавливают. И злу через нас не перешагнуть. А потому трезвость нам надо иметь последнюю, предельную, невольник тут — не богомольник, решайте каждый за себя… Не готов кто — уходите сразу и без позору всякого, слово даю; да хоть в спасательные отряды, там тоже дела хватит всем…" Было это двадцать второго июня, самый напряг, Бендеры целиком уже захвачены, считай, стрельба и вой там, грабеж несусветный творился, а из Румынии валом бронетехника шла к ублюдкам, всякий боевой припас, авиацию подняли даже — чем отвечать?
Ответили.
Когда выкинули, угомонили всю ту сволочь, пришлось еще чуть не год сторожиться, в гвардию записавшись, — хватало их, провокаций с того берега, безобразий. Наконец подыскал себе через дружков окопных работу в Днестровске, на электростанции, переехал. Гречанинов уже в правительство подался, позвали, идея была: побольше населения в российское гражданство перевести-записать, пусть-ка тогда белокаменная попробует на глазах у всех от своих отказываться… Дело сомнительное, это-то он и сам лучше всех понимал, Москве нынче всё — божья роса; но с другими попытками под какую-никакую защитную руку, под имя ее перебраться еще хуже было, грубо отталкивалась и нелепо — как, скажи, мачеха… А если и мать, то в уме ли разуме?
И об этом толковали они, заезжая по случаю друг к другу, чаще Константин Викторович к нему на хутор, с ночевьем, до полночи в беседе под шелковицей засиживались. "А всё мы это, — говорил, думал он вслух, — мы интеллигенция… Роль козла на бойне отыграли, а теперь и нас к ножу. Второй раз на веку на свой же агитпроп нарываемся… напарываемся, да, — как нас еще учить? Необучаемы в принципе, сдается; но почему не вымираем тогда с должной скоростью, почему не вымерзает и не выжигается глупость наша, дурь?! Загадка для дарвинизма… Похоже, мы — дурь народа, его заскок, и в этом качестве самовоспроизводимся, раньше народа сгинуть никак не можем… а жаль, ей-богу, жаль. Грязи бы поменьше было, крови". "Ну, куда мы без вас", — сказал ему тогда, усмешку скрывая, Василий; но Гречанинов и в темноте угадал ее, засмеялся, хлопнул его по плечу: "Ох, Василий Темный!.. Так он шутя называл его непонятно иной раз — не обидно, нет, но и непонятно. — Да, без дури-то своей — куда?! А серьезно если — гнием заживо, всей-то Россией, вони понапустили на весь белый свет — не продохнуть… Еще бы понять: целиком и бесповоротно протухли — или это раны только выгнивают, ненужное все и непотребное, всякая дрянь наша отжившая, негодная к жизни… выгнивают раны, да, и тем очищаются, а под ними, глядишь, кожица молодая с иммунитетом, которую никакая гниль нынешняя не возьмет. Вот вопрос-то. Если так — черт-то с ним гниет, не остановишь все равно, да и дряни в нас поднакопилось выше всякого… А если нет?! — Он явно зациклен был на том и перед Василием не скрывал этого, мял и без того мятое в раздумьях над жизнью лицо. — Вот вопрос. И сколько доброго в отход, в социальный мусор уходит это ж не счесть, история в такие времена, знаешь, особенно жестока, генофонд наш остатний как грушу трясет… Выживем, нет? Понятно, что дело времени это — а вот времени у нас и нет…"
Ну почему ж нету, подумалось тогда ему; есть у всякого оно, пока живой, всему вроде дадено, не отказано до срока, а вот как распорядиться им… Это еще уметь надо. Но ничего не сказал, не возразил ему, потому что и сам-то не умел, все больше ощупкой, в прикидку, а то и вовсе на авось. Оттого, может, и бьют нас, что застреваем в нем, во времени, выпутаться не поспеваем… или уж иное оно совсем у нас время, чем у других? В Шишае вот — много сдвинулось за десяток лет таких, переменилось? Разве что к худому, вспять.
Когда из тамбовской вылазки вернулись — все перерыли, перепроверили всех, кто знал или мог знать; но это уже скорее от бессилья было и вряд ли что дало бы: если кто и сдал, то наверняка замести сумел следы. Могло статься, что еще кому-то сказал Константин о поездке своей, но опять же своему, осторожности с конспирацией всякой сам обучал, в опаске постоянной держал: столько лет, мол, раззявами прожили — все, хватит! Ничего на веру не брать, все проверять, думать, язык и вовсе на цепке держать, даже и малость какую о деле нашем без нужды на слух не выносить… что, не научило еще?!
Но и никакой бдительности, никакого ума не хватит, если и с фронта, и с тыла жди всякого. Когда свои порой ненадежней и опаснее чужих, это теперь сплошь и рядом, — уж тем одним, что знают всю подноготную твою и если продадут, то уж со всеми потрохами, чего никакому шпиону вовек не выведать… Знал Василий, что «безопаска» республиканская через свою агентуру шарила по всем кишиневским казенкам-садиловкам и «крыткам», и все безрезультатно; от безнадеги пробовал добровольцем напроситься опять, хоть бы даже и в штат к ним пойти. Но ребят хватало там, да и что толку им с новичка — тем более в состоянии таком…
И состоянье было, да — некуда хуже. Это ведь Гречанинов, не кто иной, первым ему ту весть принес — за два-то с небольшим месяца перед тем как самому пропасть. Через сельсовет села соседнего, через посыльного на хуторском поле нашли его, мобильник в руки сунули, поначалу и голос его в трубке не узнать было, осиплый: "Вась, ты держись… ты слышишь? Держись…"
А держаться нечем уже было, не за что… зубами за воздух? Но и воздуха будто не стало, сел где стоял, слышал в трубке голос его трудный и молчал, землю нагребал на сапог — брал в руки ее, апрельскую спелую, рассыпчатую, и сыпал, нагребал на сапог и сыпал.