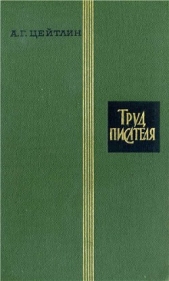Явление. И вот уже тень
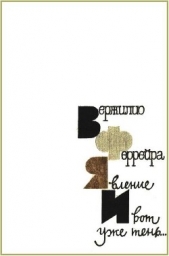
Явление. И вот уже тень читать книгу онлайн
Вержилио Феррейра — крупнейший романист современной Португалии. В предлагаемых романах автор продолжает давний разговор в литературе о смысле жизни, ставит вопрос в стойкости человека перед жизненными испытаниями и о его ответственности за сохранение гуманистических идеалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Возраст не иллюзорное понятие. Но дело не в том, что вы стары, мне слово «старость» ничего не говорит.
— И потом — очки.
— При чем тут очки?
— Почти лысый.
И уже ссутулился. Немного.
— Человека любят не за то, что кажется, а за то, что есть. И то, что есть, не просматривается сквозь то, что кажется. Либо просматривается и выходит на поверхность. И становится явным.
— Но тогда — почему, Элия? Почему я вам не нравлюсь?
— Да очень просто — потому что вы не вызываете у меня влечения. Почему я должна испытывать к вам влечение?
Нелепый вопрос. Почему? Да потому, что я — это я, но как сказать это? Сказал я вот что:
— Потому что мое чувство пересиливает все ваши доводы. Потому что в конечном счете, может быть, мы — одного возраста.
Начать с начала.
— Может быть, мы — одного возраста.
Лучик света, словно палец, коснулся твоей щеки. Невидимый пушок, еле его касаюсь.
— Элия, можно, я поцелую вас?
— Не говорите глупостей.
Лучик света, словно палец, коснулся твоей щеки. Медленно провожу им по твоей щеке, и все во мне сжимается. Белокурые волосы, зачесанные кверху, шелковистый затылок. Невесомый лучик, mon amour, скользнул по линии шеи, по изящному контуру уха, куснуть бы твои губы, my love. И тут мое лицо придвигается к твоему, напряженное молчание разделяет нас, твоя рука в моей. Она у тебя костистая, я уже говорил. Руки у тебя некрасивы, зато красивы жесты, рот некрасив, но красива улыбка. Склонив голову, придвигаюсь все ближе к тебе, ты застыла в ритуальной позе. Торжественная. Красивая, чистая, белая. Из какой-то синтетики? И вдруг — самому не верится, — словно дематериализуюсь мгновенно и устремляюсь к тебе, чуть касаюсь в пароксизме желания — в неистовстве, в напряжении, на пределе душевных сил, — касаюсь нематериальным поцелуем твоего лица. И режущая растроганность, все волокна моего существа пронизало безмолвным криком. Смотрю на тебя, дрожа всем телом.
— Ну-ну, не делайте томных глаз.
Элена долго держалась со мною так же, как ты, даже когда мы стали близки, ставя меня перед самим собой, надламывая мою внутреннюю цельность.
— Надень очки, может, тогда справишься, — сказала она мне однажды в постели.
Чуточка иронии — и вся моя цельность вдребезги.
— Ну-ну, не делайте томных глаз.
А у меня глаза заволокло нежностью, тебе, наверное, видно даже сквозь запотевшие очки. Машинально протираю их, смотрю на тебя сквозь чистые стекла, ты напряглась. Ледяная, высокомерная, взгляд пристальный, алмазно твердый. Только по лицу пробежала мгновенная алость. Как по легким волнам отсвет заката, там, на пляже, на юге. Я взял книгу, лежавшую тут же, ты проявила к ней живейший интерес. Открыла ее сразу же, стала объяснять, это был комикс.
— Так, значит, нынешняя молодежь… Но это же детские книжки. Истории в картинках…
— Это не детская книжка, — сказала ты.
И следовало бы научиться разбираться в такой литературе — я уже научился?
— Никогда не пробовал разобраться.
Надо было разбираться. Вот, видите этот знак? Кажется, то была звездочка — и ты пролистнула несколько страниц, я попытался понять, что там такое. Какая-то история про амазонок, насколько я понял, что-то в этом роде, я видел твои зубы, в оскале был вызов, я попытался понять, что там такое. Пока не подумал, что… Может ли быть? Агрессивно феминистская притча с сафическим привкусом. Патологическая ненависть к мужчинам — может ли быть? Ты из синтетики? Лед глаз твоих не растает и при тысяче градусов. Злобное наслаждение. Элия излагает содержание комикса:
— Они договорились, что никогда не уступят мужским домогательствам.
И одна нарушила клятву. Хищная радость:
— Тогда остальные четвертовали ее.
И я увидел эту картинку, сцену четвертования. И спросил кощунственно:
— Элия! Вам не по вкусу мужчины?
Она прошила меня ироническим хохотом — разящим, как пулеметная очередь.
— У меня есть друг, — сказала она, отсмеявшись. — Живу с ним уже два года.
Внезапный гнев, горечь во рту. Я оглушен, растерян, голова кружится. Что хотела она сказать? Словно оскалилась хищно белоснежными зубами. Я унижен, я словно в блевотине прокаженного. Ощущаю унижение всей своей опустошенностью, нечто, напоминающее свободное падение в никуда. Тугой комок тревоги, подступивший к горлу, вдруг растекся до самых корней жизни, внезапная расслабленность, отлив сил вплоть до полного небытия. Дряблый, вывернутый наизнанку. Мешок, который пинают ногами. Кто это такой? Мне самому себя не опознать, ничего общего со мною. И тут решаюсь взглянуть на тебя: на твоей стороне спокойная жестокость, — и от твоей стороны до моей, от полюса до полюса всего того пространства, которое я было завоевал для себя, — полнейшая растерянность, покинутость, я — как малыш, заблудившийся на пляже, и плачу — больше уже от сознания крушения божества, чем от горечи и унижения. Сдавленный плач, я чувствую покалыванье в глазах, до стужи сухих. Медленно встаю и ухожу. Элия прощается улыбаясь. Спокойно, холодно, любезно. Снова иду в сад, шествую меж скамейками, на которых поодиночке сидят старики, греясь на солнце. Я тоже сажусь, выкуриваю сигарету. Спиноза, «Этика», теорема XXXV, часть III, гласит: «Si quis imaginatur rem amatam eodem vel arctiore vinculo Amicitiae quo ipse eadem solus potiebatur, alium sibi jungere, Odio erga ipsam rem amatam afficietur et illi alteri invidebit…» [41]
И все же я еще не в силах возненавидеть тебя. Или хотя бы позавидовать твоему любовнику. Может, и это тоже любовь, только вывернутая наизнанку. Странно, я даже восхищаюсь этим типом, которому ты отдаешься. Перечитываю снова «si quis imaginatur…».
Все, стало быть, было предусмотрено людскою мудростью. Прекрасный солнечный день.
Когда я возвращаюсь домой, дождь и ветер бушуют за окнами. Элена собирает грязную посуду, говорит мне, не оборачиваясь:
— Гости уже ушли. Где ты болтался все это время?
Тот же вопрос — в музыке, что слышится с пластинки: где болтался ты все это время? Вернись к истокам, флейта зовет тебя, отдается эхом в бесконечности горизонта.
Слышу ее зов, поворачиваюсь туда, откуда доносится он, нездешний. Ищу неуверенно, может, отовсюду, со всех четырех сторон света или из глуби земной; нездешний зов, звучащий в пелене молчания, которую раскинуло небо. Медлительная нежность утомления, внутренней усталости — все во мне умерло, умирает вечер. И смутное ощущение, что флейта звучит в лад — но не с тем, что доступно зрению, слуху, что беглым светом вспыхивает в воздухе, а с тем, что вечно, когда все возвышается до знаменья, пусть случайного и краткого, обретает молчаливое бессмертие. Все кончено, круг замкнулся. Снова за книгу? Это мысль. Усилие, вымысел, на которых сосредоточишься всем существом, яркое пламя, вспыхнувшее на миг, и какие-то твои открытия, промелькнувшие в этом пламени, а затем — известно что: то, что равнозначно смерти. И при мысли о смерти все во мне стынет — чего еще ты ждешь? И целой жизни редко хватает на то, чтоб создать новую мысль, как можешь ты хотеть еще и молодости? О, господи, я хотел быть животным. Остаться в неведении, пока не распадется связь меж моими частицами, сохранить цельность самоощущения — только мое тело, и ничего вне его, хотеть, не сознавая, что хочу, есть, спать, любить. Бессознательно. Все несчастье в сознании. Быть всем, что ты есть, в неведении, что ты есть, дабы не осталось промежутка, куда могла бы протиснуться скорбь — о, господи. Вечер умирает. По сожженному дочерна небу проносится шум города, уходящего в ночь, — не поехать ли в деревню искупаться в реке, текущей внизу, под оградой, в тени, которую отбрасывает ореховое дерево? Или растянуться на диване в гостиной, затворить окна, чтобы избавиться от проклятого зноя. Да все равно, пусть даже созданное тобой, твоя мысль принадлежала тебе одному, порождена была вспышкой вдохновения. Теперь она — словно мертвые звуки музыки, холодная проволочная конструкция. Ибо лишь незримое зримо, нереальность реальна в промежутках, оставленных реальным и зримым. Не звуки — суть музыки, не слова — суть изреченного: звуки, слова — как придорожные знаки, дорога проходит меж ними. Но дорога стерлась, мне остались только знаки — а молоток, неистовствующий наверху, дробит мое терпение. Что значат смерть, и судьба, и даже искусство, и… Проволочная основа структуры в целости и сохранности, но меж переплетениями — бесплодная пустота. Все дела мои, все мои думы уместились в мгновение, — живое, плодотворное — но теперь все сошло на нет, переварено, выброшено в сточную канаву — может, искупаться? Переварено, уничтожено мною самим и другими. Может, искупаться? Ледяная прозрачная вода, рябь отблесков на мгновенно меняющейся поверхности.