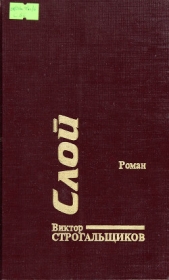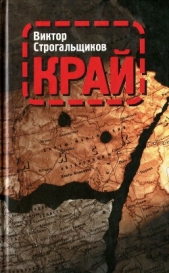Стыд

Стыд читать книгу онлайн
Полная версия нового романа Букеровского номинанта, победителя Первого открытого литературного конкурса «Российский сюжет».
Главный герой, знакомый читателям по предыдущим книгам журналист Лузгин, волею прихоти и обстоятельств вначале попадает на мятежный юг Сибири, а затем в один из вполне узнаваемых северных городов, где добываемая нефть пахнет не только огромными деньгами, но и смертью, и предательством.
Как жить и поступать не самому плохому человеку, если он начал понимать, что знает «слишком много»?
Некие фантастические допущения, которые позволяет себе автор, совсем не кажутся таковыми в свете последних мировых и российских событий и лишь оттеняют предельную реалистичность книги, чью первую часть, публиковавшуюся ранее, пресса уже нарекла «энциклопедией русских страхов».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пацаев протянул ему листки с компьютерным набором. Лузгин прочел на первой странице жирно отпечатанный красивый заголовок, повернулся и бросил бумаги в корзину. Оставь, сказал Пацаев, для черновиков. Нас, блин, ругают за перерасход бумаги, объявлена борьба с непрофильными тратами.
Как же Лузгин со временем устал от разъяснений! Все вокруг, кого ни спросишь, объясняли ему что-то, чего он не знал или не понимал. Нет, неверно: ему казалось, что он знает и понимает, что он видит перед собой достаточно ясную картину, но лишь до тех пор, пока он не задавал очередной вопрос и ему не начинали отвечать, и тогда картина начинала распадаться, перестраиваться, как будто чьи-то ловкие руки крутили у него перед глазами кубик Рубика, причем с обратной целью: не сложить, а разрушить грани. Но задавать вопросы — это была его работа и привычка, а теперь, после отказа Харитонова, еще и грязная задача, отвертеться от которой уже не удастся: Агамалов отбыл за границу, молва вязала этот факт с грядущей передачей власти, эмиграцией, а без Хозяина в деле Вальки Ломакина оставался только один путь — через старика.
— Скажи-ка, Боря, — задумчиво спросил Лузгин, — ты хорошо знал Вольфа? Что это был за человек? И почему вокруг его имени сейчас такая, скажем, пауза?
— Конечно, знал, — ответил Пацаев. — Мы с ним дружили.
— Да ты со всеми якобы дружил.
— Не со всеми и не якобы. С Агамаловым, например, дружбы никогда не было. Он уже тогда умел такую шторку опустить: и не видишь, а чувствуешь. С Геркой — да, дружил и водку пил, но потом Герка тоже шторочку себе придумал. А вот Витька Вольф был совсем другим человеком. Ему на должность было наплевать, с ним мы дружили по-настоящему.
— И водку пили?
— Еще как.
— Правда, что он спился? И умер от этого?
— Послушай, ты, — сказал Пацаев, — не трогай Вольфа, хорошо?
— Но ведь его умышленно споили. Мне так рассказывали…
— Кто рассказывал? — Боренька всем телом подался вперед и растопырил пальцы, как это делают в кино бандиты на разборках. — Шваль коридорная? Уже напели, суки… Что они знали о Витьке? Ни хрена они не знают! Споили, спился… Не все так просто, парень… Это про нас с тобой можно сказать: споили, не споили…
— Ты же знаешь, я не пью. И ты не пьешь. Мы-то с тобой не спились, верно?
— Сегодня — нет, завтра — посмотрим. У нас с тобой, Вова, может быть, в жизни и повода-то не было спиться по-настоящему.
— А у него, выходит, был?
— Я же сказал: не лезь…
— Значит, был?
— Не твое дело.
Пацаев замолчал, и Лузгин, профессиональный разговорщик, тянул это молчание, отлично зная, что первым нарушит его тот, кто не хотел ответить: он или ответит все-таки, или примется нападать, а на самом деле — оправдываться. И Боренька, болтун и забияка по природе, действительно не удержал рот на замке и стал рассказывать про Вольфа, какой это был настоящий друг и великий организатор.
Его любили. Пацаев так это сказал, что Лузгину даже завидно стало. Вот именно что любили, а не просто уважали или боялись. Была у человека необъяснимая, таинственная вещь — то, что именуется противным русскому слуху термином «харизма». Виктор Вольф мог не приказать, а попросить, и люди работали сверхурочно и даром. Мудрый старик Плеткин его первым и вычислил, и привлек, и возвысил, а потом уже Вольф потащил за собой и Эдика Агамалова, и Геру Иванова. И когда назрел вопрос о замене старику, Витька сам и предложил Эдика в президенты, хотя все были уверены, что президентом будет Вольф, великий и могучий. Он не любил кабинетную жизнь, а еще больше — московскую коридорную толчею, министерские интриги, многозначительную тишину кремлевских переходов. Да, он был дружен с Бурбулисом, в те годы главным человеком после Ельцина, и мог бы толкнуть «Сибнефтепром» вперед «Лукойла» в нефтяные придворные дамки, но умудрился разругаться с другом Геной из-за копеечных, в масштабе намечавшегося бизнеса, второстепенных мелочей. Так что во многих существенных смыслах было правильно, что Вольф уступил свое по праву место Агамалову и остался главным инженером, организатором производства, любимцем всех и вся.
— Но ведь он пил уже тогда, — перебил Бореньку Лузгин, — мне же рассказывали: когда ваш головной офис еще был в Москве, люди не могли попасть к нему неделями. Он же пил на своей даче в Жуковке. Люди сидели в приемной, им говорили: будет в одиннадцать, будет в час, будет в три, придите завтра в девять. Ну, было же такое, Боря, что скрывать-то! Но я причины не пойму…
— И не поймешь, — сказал Пацаев. — Все, ладно, я побег. Тебе тут, кстати, некто Сорокин звонил. Знаешь такого?
Лузгин кивнул и сразу отрезал вопросом опасную тему:
— А Земнов не звонил? Ничего нового нет? Ну, про внучку старика… Ты его видел, Земнова? Не спросил?
— Видел вчера, но не спросил.
— Ну как же так, Боря!
— А вот так! — обиделся Боренька. — И без этого столько проблем, особенно у Димки. Да ты глазоньки-то не выпячивай, не надо… Были бы новости — он бы первый сказал. Ишь ты, блин, один дедушка Вова у нас такой добренький… Ты вообще знаешь, что тебя наши пресс-бабы зовут Дед? А меня не зовут. А ведь мы с тобой одногодки. Вот так-то.
Лузгин подумал не спеша: не дать ли ему в морду? А еще лучше — выпить. Чего угодно, например — пива, и много, до тяжелой смури, когда тело в порядке, а голова уже не держится. Или водки, и тоже много, и смурь будет другая: голова в порядке, мысли вьются, а ниже — сплошное желе. Абсенту и кофе тоже неплохо, до галюников, с дискретными перемещениями в пространстве и времени. Нет, виски! Это благороднее. Не угодно ли, сэр? Отнюдь! В каком смысле, сэр?.. Лузгин знал, что он удержится, хотя и сильно накатило впервые за весь период трезвости. Но он знал: это только первый звоночек, когда хочется чего угодно, лишь бы внутрь, но знаешь, что с этим справишься. Потом будет звоночек второй, когда нестерпимо захочется чего-то конкретного, и даже вкус всплывет в гортани, и рот наполнится слюной, но с этим ты справишься тоже. А вот когда приспичит в третий раз, и снова чего угодно, и ты вдруг почувствуешь невероятную близость, доступность спиртного, не важно где оно: рядом, в холодильнике, или за полгорода в ночной единственной лавке, вот здесь ты сдашься. Еще продержишься час или день, или минуту, еще наберешь полную грудь воздуха и задержишь дыхание, и будешь терпеть изо всех сил, до мушек и кругов в глазах, но вскоре выдохнешь неминуемо, потому что дышащему нельзя без воздуха.
Он никогда, однако, не умел пьянствовать дольше трех суток подряд. Жить в подпитии — да, мог и дольше, однако же не пьянствовать по-черному. Но ему нравилось именно пьянствовать. А потом болеть, отходить, отдыхать от алкоголя и, едва почувствовав себя условно трезвым и относительно здоровым, напиваться снова. Многие из его закадычных друзей постоянно находились в подпитии, что, впрочем, совсем не мешало им при любом удобном случае напиваться вдрызг, а далее опять продолжать существование в подпитии. Так жил, пока не умер, его друг — телевизионный режиссер, вяло преследуемый общественностью и начальством за вечный запашок. Режиссер пил по принципу «одна минута — один грамм» и за рабочий день высасывал бутылку соответственно. Всем помнился хрестоматийный случай, когда режиссер, внявший голосу разума и профсоюза, вышел на запись трезвехоньким и схлопотал немедля докладную за появление на работе в нерабочем состоянии: он путался пальцами в кнопках и не успевал реагировать на происходящее в студии. Лузгин видел, как он плакал в коридоре, потом хватил сто граммов спирта в аппаратной, пришел в себя и впредь таких нелепостей, как неожиданная трезвость, себе уже не позволял. Он был хорошим другом, и Лузгин вспоминал его с нетягостной, тешащей душу печалью, как и многих других хороших друзей, которые, казалось, всегда будут рядом, а потом в одночасье исчезли. Другие, что с годами приходили им на смену, их заменяли, но не замещали, а водка замещала все на свете.
— Послушай, Боря, — сказал Лузгин уткнувшемуся в экран компьютера Пацаеву, — ты Вальку Ломакина знаешь? Ну, лыжник, спортсмен знаменитый.