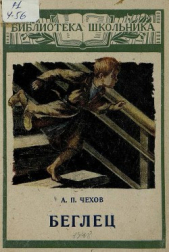Одарю тебя трижды (Одеяние Первое)

Одарю тебя трижды (Одеяние Первое) читать книгу онлайн
Роман известного грузинского прозаика Г. Дочанашвили — произведение многоплановое, его можно определить как социально-философский роман. Автор проводит своего молодого героя через три социальные формации: общество, где правит беспечное меньшинство, занятое лишь собственными удовольствиями; мрачное тоталитарное государство, напоминающее времена инквизиции, и, наконец, сообщество простых тружеников, отстаивающих свою свободу в героической борьбе. Однако пересказ сюжета, достаточно острого и умело выстроенного, не дает представления о романе, поднимающем важнейшие философские вопросы, заставляющие читателя размышлять о том, что есть счастье, что есть радость и какова цена человеческой жизни, и что питает творчество, и о многом-многом другом.
В конце 19 века в Бразилии произошла странная и трагическая история. Странствующий проповедник Антонио Консельейро решил, что с падением монархии и установлением республики в Бразилии наступило царство Антихриста, и вместе с несколькими сотнями нищих и полудиких адептов поселился в заброшенной деревне Канудос. Они создали своеобразный кооператив, обобществив средства производства: землю, хозяйственные постройки, скот.
За два года существования общины в Канудос были посланы три карательные экспедиции, одна мощнее другой. Повстанцы оборонялись примитивнейшим оружием — и оборонялись немыслимо долго. Лишь после полуторагодовой осады, которую вела восьмитысячная, хорошо вооруженная армия под командованием самого военного министра, Канудос пал и был стерт с лица земли, а все уцелевшие его защитники — зверски умерщвлены.
Этот сюжет стал основой замечательного романа Гурама Дочанашвили. "Дo рассвета продолжалась эта беспощадная, упрямая охота хмурых канудосцев на ошалевших каморрцев. В отчаянии искали укрытия непривычные к темноте солдаты, но за каждым деревом, стиснув зубы, вцепившись в мачете, стоял вакейро..." "Облачение первое" — это одновременно авантюрный роман, антиутопия и по-новому прочитанная притча о блудном сыне, одно из лучших произведений, созданных во второй половине XX века на территории СССР.
Герой его, Доменико, переживает горестные и радостные события, испытывает большую любовь, осознает силу добра и зла и в общении с восставшими против угнетателей пастухами-вакейро постигает великую истину — смысл жизни в борьбе за свободу и равенство людей.
Отличный роман великолепного писателя. Написан в стиле магического реализма и близок по духу к латиноамериканскому роману. Сплав утопии-антиутопии, а в целом — о поиске человеком места в этой жизни и что истинная цена свободы, увы, смерть. Очень своеобразен авторский стиль изложения, который переводчику удалось сохранить. Роман можно раздёргать на цитаты.
К сожалению, более поздние произведения Гурама Дочанашвили у нас так и не переведены.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Сузи, моя плодообильная.
— Там не целуй, долгоденствия маршалу...
— Но Грег Рикио не отрицает и...
И где-то в Среднем городе прогремел охваченный клеткой спесивый Каэтано: «Чааас ноочииии, и всеее геениальноооо!»
А потом, надежно упрятав измятую женщину в деревянную накидку-щит, скрыв ее под маской, полковник стал на нижнюю ступеньку и велел вмиг представшему перед ним Элиодоро:
— Проводи, — и уверенным движением круглой головы указал Доменико на лестницу, но игрушка его сказала:
— Просьба у меня.
— Просьба? Говори, слушаю... Ах, хорошо было...
— Если можно, я... Если позволите...
— Говори, ну... давай...
— Утром, когда наступит день... — Как он волновался! — Пустите в один уголок вашего сада, прошу.
— В какой уголок? А-ах, хорошо было...
— Тот, что для контраста.
— Где сорняки — крапива, папоротник?
— Да, грандхалле.
И осекся, огляделся — поблизости никого не было.
— Хорошо, изволь... Но зачем тебе?
— Не знаю... хочется.
— Отвечай, говорю!
— Нравится мне папоротник.
Полковник даже скользнул по его лицу взглядом на миг.
— Шутишь, хале?
И уже в комнате, когда Доменико — впервые унизившая себя душа! — ждал большой благодарности и похвалы, полковник бросил ему:
— Смотри, пригульный, никому ни слова.
— Не пригульный я.
— А кто же — никого у тебя нет...
— Как нет, у меня отец есть.
— Где он, ну где? — Полковник насмешливо прищурился, устремив взор на Умберто.
— Высоко, в селении. В Высоком селении.
— Скажи-ка, в селении... Ничейный ты, безродный, нет у тебя отца.
— Есть.
— Где он, где он у тебя, отец?! — И, почему-то страшно задетый, полковник исступленно сорвал с тахты покрывало, нагнулся и заглянул под нее, открыл стенной шкаф, пошарил на полках, разворошил постель, пинком опрокинул кресло, вывернул Умберто карманы, даже в прозрачный кувшин заглянул, издеваясь и повторяя: — Ну где же он?! Где твой отец! Нет его, ясно! Ишь, отца захотел! Где он? Не существует, нет его, понял?!
Воздев голову, Доменико смотрел на потолок.
В сертаны, в Камору и снова в сертаны — мотаю вас с места на место, утомил, может, слишком. Люблю я сертаны, успели заметить, наверно, люблю и сертанцев — отважных и славных, да глупых: другим они служат, другим! Но помните Мендеса? Он там, уже там!.. Однако для нас — Доменико все ж главный, хотя покидаем его и порою теряем из вида. Что? Удивил вас? Вам трудно поверить? Но увидим в конце, убедитесь в конце... Ах, о каком говорю я конце — его нет... Никогда ничего не случалось такого, что имело б конец. Находится выход... Найдется... Какой? Там увидим, увидим, а пока что побродим. Да, да, временами коварен я очень, как и вы, между прочим. Давайте ж побродим... Увлек, захватил меня ритм, отвязаться не в силах, вам легко, вам никто не мешает закрыть эту книгу, отложить, но если я сам, если сам я закрою себя — пропаду! — обречен я писать. И кто мне доверил судьбы стольких людей, сложные судьбы...
Но мы лишь следить только будем, следить неприметно, а слухами тешить себя и злословить — нет, нет! Замечали, наверно, как сплетни смакуют, довольные, слюни глотая, с притворным сочувствием губы поджав, в сторону смотрят куда-то, а сами ждут новых... Мы ж, я и вы, постоянно ведь рядом, друг возле друга, и под ноги вам расстилаю истории — как ковер, проходите, прошу; а вы, завлекаемы мной, так настырно мне в душу глядите... Но нет ничего, что я вам показать не решился, смущенный — я же ваш, я же твой... И бывает порой, так и тянет усталой рукой обхватить вас за плечи, однако — увы! — среди стольких людей одного лишь тебя я не вижу, не знаю, зато ты в душе моей шаришь, и волей-неволей лукавлю. Вам странно? Я раб, я невольник, но вольноотпущен... Откроюсь — нас трое всегда, на плече у себя я всегда ощущаю исполина незрячего руку, и трудно сказать, он ли водит меня или мною ведом, и так тяжелы его пальцы, но нежна заскорузлых ладоней безмолвная скорбь... Опускает ладонь на плечо, и пускаемся в путь, в неживые еще города, чтобы жизнью людей наделять — еще неживых... Это трудно немного, к тому ж иногда на своей голове вас держу. И наше знакомство оставило след несомненно. Так давай ухвати меня за руку, друг, недоверчивый друг, обойдем Сертанети, наши сертаны... Там праздник справляли один, лунной ночью... Зе надевал двууголку, и — скок! — сидел на коне, и, склонившись, подхватывал Мариам, и она, упираясь маленькими ступнями в стремя, оказывалась за спиной Зе, а тот, стараясь скрыть смущение от зримой для всех близости с ней, сидел неестественно прямо, строго, надвинув на глаза двууголку. Обремененный двумя седоками, конь шел между кактусами, устремившими к небу тихую колкую мольбу, и уже издали видели они разожженное в честь праздника сухостойное дерево. Со всех сторон неспешно съезжались сертанцы, собирались вокруг полыхавшего дерева, жен спускали на землю, сами оставались верхами — но им, выросшим на коне, трудно ли было! — небрежно сидели в седле. А Грегорио Пачеко, волшебник, чудодей барабанный, зажав между ног свой вроде б простецкий инструмент, закрыв глаза, водил ладонью по шероховатой коже, почти не касаясь, и протяжно шептал под его рукой барабан, но ладонь была грубой, в мозолях, и сертанцы съезжались под мягко шуршавшие звуки, а издали, завороженная нежным шуршаньем и пламенем, тянула к ним голову, настороженно следила за ними змея, и, подобно змее, тянул голову к миске в далекой Каморе Кадима, насыщаясь горячей похлебкой. Измываясь над хлебом, он скатывал шарик из мякиша, мял, терзал и тогда уж кидал в дымящую миску — очень любил обжигавшее варево; как знать, возможно, луженый был рот у него, но чеснок он засовывал под язык сбоку и поглубже, да столько сразу, что во рту нестерпимо горело, жгло, и он выбрасывал длинный язык и водил им в воздухе, а потом, округлив истертые блеклые губы, дул на узко вытянутое пламя свечи; извивалось, металось пламя, и Кадима, вытянув бескостное тело, передразнивал ненавистный свет, извивался, качался, а если переедал чесноку, запускал бескостные пальцы-щупальца в стоявшую тут же банку с вареньем и горстью заполнял им рот; сироп растекался по подбородку, но с этим он просто управлялся — слизывал длинным языком или утирал тылом ладони и, жмурясь от удовольствия, тер друг о друга липкие пальцы, потягивался и всласть выкручивался, извиваясь с головы до пят, и по телу его снизу вверх медленно, упруго прокатывалась волна — не было у Кадимы костей, а когда он, мучаясь, снова дул на постылое, ненавистное пламя свечи, его мерзкая тень на стене повторяла извивы огня, жутко кривясь и ломаясь. Потом, слепив клейкие пальцы в кулак, заносил их к лопаткам, свертывал руки и укладывал их на плечи несуразными погонами — бескостным был Кадима; в разъятых подобьем улыбки губах желтели два широких зуба; наевшись, Кадима застывал внезапно, неумолимо пристыв глазами к щели в полу, что-то вытягивал из нее взглядом, и когда в дырке появлялась темная влажная точка, леденели глаза Кадимы, но в льдинках зловеще пылали горящие уголья, и мышь со вздыбленной шерсткой безвольно подвигалась к нему по нещадно властному велению, а Кадима протягивал руку к клетке на тахте и выпускал из нее кошку с длинными страшными когтями — та бесшумно налегала на жертву, вонзая в спину ей когти; и в когтях чувствовал себя некий Деметре, прижавшись к стене и заслонив лицо ладонями, в десяти домах от Кадимы. «Один у тебя выход, Деметре, — бежать... — плакала рядом с ним женщина. — Надо бежать.,— «А может, не выдаст...» — «Кто, Чичио?! С какой это стати!» — «Сбегу, этой же ночью... Подкуплю Каэтано, по очереди даст нам уйти. Хоть и дальней — родней приходится все же». — «Станет он открывать тебе тайный путь...» — «Может завязать глаза и так повести...» И бурно стучало у несчастного сердце, а дальше, в сертанах, легонько стучали по барабану заскорузлые пальцы Грегорио Пачеко, и сияли глаза у нетерпеливо рвавшихся в пляс пастухов, но внезапный цокот копыт перебивал шаловливо-беспечную дробь барабана — из Города ярмарок мчался к ним Мануэло Коста, и когда, осадив коня у полыхавшего дерева, он изящно снимал свою двууголку, низко кланяясь всем, Мариам явно, подчеркнуто отворачивала голову, Мануэло же улыбался беспомощно Зе, подмигнув ему по-приятельски. А барабан под ладонями Грегорио Пачеко обращался в сердце самих сертан, то шептал, и шепот был таинственным, подобно сертанам, то гремел, оглушая, угрожая как будто, — это гиена подбиралась к добыче, замирала и вдруг налетала... Но в сертанах жили отважные, стойкие люди, настоящие, и ладони Грегорио им выбивали величальную; и сертанцев, объединенных этим общим биением сердец, тянуло взяться за руки, закружиться вокруг полыхавшего дерева — остро ощущали взаимную близость, неукротимым было желание; и когда Грегорио Пачеко, закрыв глаза и откинув голову, увлекшись до дрожи, самозабвенно выбивал из своего инструмента гулкие, мощные звуки, Мануэло Коста дважды облетал бушующее пламя, потом, ухватившись за луку седла, на миг соскочив, касался земли и, снова взлетев на коня, резко осаживал, и все остальные повторяли за ним легкий трюк, но три вакейро не участвовали в состязании — Грегорио Пачеко, Жоао Абадо и Зе. Первый не мог — управлял единым, огромным сердцем сертанцев; второй, мрачный угрюмец, не позволял себе; а третьему, великому вакейро, не подобало. И нетерпеливый конь Мануэло Косты вновь и вновь облетал исполинской свечой пылавшее дерево, а его ловкий седок перегибался вбок низко-низко и, ухватившись за стремя, как жгутом, опоясывал собой коня, цепляясь крепкими пальцами за второе стремя, за седло, и, вынырнув, снова был на коне, прямой и веселый. «Тьфу, ветрогон!» — ворчал Жоао Абадо, а другие повторяли трюк Мануэло, кроме тех же трех, и не щадил ладоней жаждавший скачки Грегорио Пачеко, рассыпая дробь по сертанам, глухие удары единого сердца походили на торопливые слова любви... И, обреченное, трещало горевшее дерево, но гул волшебного инструмента Грегорио Пачеко перекрывал все звуки, и Мануэло Коста, разойдясь, разохотясь, мчал коня и внезапно делал стойку на руках. «Тьфу, вертопрах!» — снова ворчал Жоао, но большинство сертанцев повторяли и этот сложный трюк, а веселый вакейро нетерпеливо ерзал на коне, готовый снова блеснуть умением и ловкостью. По просторам сертан разносился рокот барабана, ошалело озирались шакалы, и лихорадочно доил оставленных без присмотра коров бесенок Саси, а сертанцы с факелами выстраивались в ряд в трех шагах друг от друга — к сложнейшему трюку готовился веселый вакейро. Сойдя с коня, волнуясь, Мануэло Коста отдавал кому-нибудь повод и, расправив плечи, доходил до середины факельного строя; там, улыбнувшись, вскидывал руку — срывался конь, мчался к нему мимо факелоруких, а веселый вакейро устремлялся вперед и вскакивал на обогнавшего, ветром летевшего скакуна; резкий взмах руками — и уже красовался в седле и с радостным кличем, смеясь, возвращался к полыхавшему дереву. И все, кроме Жоао, взирали на него с улыбкой, представьте! — Мариам и то следила за ним краем глаза. Как он смеялся! Как улыбался! И в конце концов не выдерживал Зе, даже он поддавался страстному зову барабана, даже он, великий вакейро, готовился выполнить труднейший трюк — неторопливо, спокойно, с достоинством спешившись, вручал коня Мануэло, шел вдоль пылающих факелов и ждал потом, неосознанно гордый, ждал великий пастух, когда промчится мимо скакун; вскидывал руку, и Мануэло отпускал коня, беззлобно шлепнув ладонью по крупу, и умолкал самозабвенно рокотавший барабан, только неразборчивая скороговорка копыт да треск горевшего дерева дробили тишину, и бежал рядом с лошадью Зе, неслись они бок о бок, ловкий вакейро руки держал за спиной, усложняя свой трюк, и как стремительно несся он, длинноногий! И внезапно — скок! И стоял на крупе Зе Морейра, все так же руки держа за спиной, первый из первых, великий вакейро. Зачарованно смотрела на него, зардевшись, жена, и спокойно стоял на крупе летевшей лошади Зе, уверенно, прямо стоял, но точила душу неотступная тоска — не свободен был, нет, не был свободным... Подхватив повод, чуть натягивал, и застывал конь, с безотчетной гордостью спешивался Зе, и в глазах его гневно пылало мятежное пламя неистово, яростно умиравшего дерева, и далеко, очень далеко, в Каморе, пылало пламя в глазах Деметре, с лица которого внезапно сорвали повязку, — растерянный, потрясенный, он смотрел из тесной клетки Каэтано на двенадцать человек, безмолвно обступивших его с факелами, и один из них, грозный страж ночи Каэтано, ухмылялся вероломно. В саду грандхалле, да, в роскошном жутком саду, стоял некий Деметре, обманутый, проданный, и обернулся к неведомому проводнику, которым должен был быть Каэтано... А тот, неведомый проводник его, сбросил рукавицы, сбросил накидку-щит, маску, и позеленел Деметре со страху — с ним рядом в клетке стоял Кадима! Сам главный палач, прямой исполнитель воли Бетанкура... С испугу, а возможно, в слепом отчаянии Деметре замахнулся ножом, но Кадима, зло ухмыляясь, перехватил его руку бескостными пальцами, и мигом выпал узкий нож, — а потом дважды обвил он шею жертвы холодной, хлесткой, шелудиво чешуйчатой рукой и вцепился в гортань пальцами-щупальцами другой, сдавил ее — у обреченного Дэметре выкатились глаза — омерзительно липкие от варенья пальцы стиснули шею. Кадима, продлевая удовольствие, продлевал муки жертвы, выдыхал ему и судорожно раскрытый рот вонючий чесночный дух, но в конце концов не выдержал соблазна, вонзил в губу ему два желтых зуба! Деметре качнулся и разом поник, а Кадима отодрал от его гортани извивающиеся пальцы, снял с шеи свитую кольцами руку, и ничком повалился хулитель великого маршала. Мичинио сверкнул свинцово-пепельными глазами, карлик Умберто бегом принес для Кадимы огромную миску обжигающе горячего молока, а полковник опустил надменно скрещенные руки, наклонился к Доменико и зашептал: «Хорошо видел?! Видишь, как он обходится!» Но Доменико тошнило, он крепко сжал губы — гадкой слюной наполнялся рот, из глаз исторгались горестные слезы. Кадима поднял железную клетку, выбрался, руки его поползли к миске, в кустах роз остался Деметре со своим ножом, а скиталец, чтоб не вывернуло всего наизнанку, пустился к дальнему углу сада, зарылся лицом в крапиву, рвал жгучие листья, тер лицо — исступленно, немилосердно, обжигая щеки, лоб; но что-то приятно холодило во мраке, оказалось — папоротник; изумленно смотрел он на простое растение, сострадавшее... Резкий, но утешающий был у него запах, и жадно вдыхал он запах растения, что так не ценил, презирал; и когда от любви защемило сердце, растроганный, он нежно провел папоротником по обожженному лицу, не внимая хохоту стоявшего над ним полковника: «Вот так чудак, чудо-юдо, лицо крапивой моет! Ну насмешил, ну уморил! Ох, уморил, ох, уморил!.. А мыло не хочешь, кирпичное мыло, натереть лицо?»