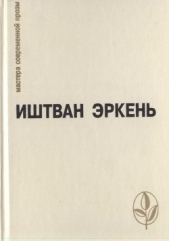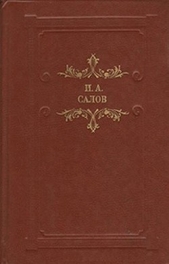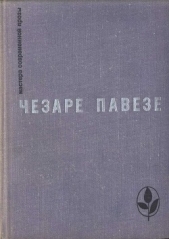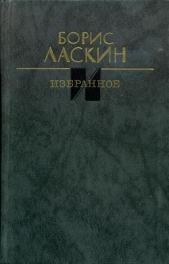Избранное
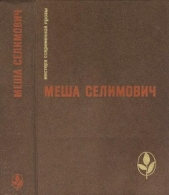
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— О чем вы говорите? — возражал он.— Здесь в часе ходьбы от центра есть такие задворки, какие трудно себе и представить. У вас под носом рядом с византийской роскошью и собранными со всех концов империи богатствами ваши собственные братья, как нищие, ютятся в этих трущобах. А мы — ничьи, мы — всегда на меже, мы — всегда чья-то добыча. Что ж удивительного в том, что мы бедны? Столетиями мы ищем и едва узнаём друг друга, скоро вообще забудем, кто мы такие, мы не помним уже о том, что вообще чего-то хотим, другие нам оказывают честь, когда принимают под свои знамена, поскольку у нас нет своих, покупают, когда мы нужны, и плюют нам в лицо, когда в нас пропадает потребность, самый злосчастный кусок земли во всем мире, самые несчастные люди на земле, мы теряем свое лицо, а принять чужое обличье не можем, оторванные от родной почвы и не пустившие корней в другой, чуждые всем и каждому, и тем, кто нам близок по крови, и тем, кто не считает нас родными. Мы живем на перекрестке миров, на границе народов, под угрозой любого удара, всегда перед кем-то виноватые. Как о скалы, о нас разбиваются волны истории. Нам надоело насилие, и поневоле свое убожество мы превратили в достоинство, стали благородными из упрямства. Вы же бессовестны от переполняющей вас злобы. Кто же тогда отсталый?
Одни его возненавидели, другие стали презирать, третьи избегали, и он чувствовал все большее одиночество и тоску по родине. Однажды он дал пощечину какому-то своему земляку, который рассказывал грязные анекдоты о боснийцах, и ушел, чувствуя горечь и стыд за своего земляка и за себя самого. И тут на улице услыхал разговор: дубровчанка и ее муж стояли возле лавки и говорили на его родном языке. Никогда прежде человеческий язык не казался ему более прекрасным, и никто не был ему ближе этой стройной женщины с благородными манерами и этого пузатого дубровницкого купца.
Многие месяцы Хасан уже ничего не делал, разъедаемый бездельем, сознавая, как тщетны его скитания по огромному городу, а отец щедро посылал деньги, гордясь тем, что его сын служит султану. И пока дубровчанин заканчивал свои дела, Хасан сопровождал его жену по прекрасным уголкам Стамбула, слушал самый прекрасный язык из самых прекрасных уст, забывая о своих муках, да и женщина, судя по всему, тоже не очень стремилась избегать его. Нежную дубровницкую горожанку, воспитанную у миноритов, больше всего привлекали в молодом боснийце не его образованность, красота, изысканность манер, но то, что, обладая всем этим, он оставался боснийцем. Жители далеких провинций в ее представлении были грубыми, глупыми, неотесанными, своенравными, она считала, что они обладают тем сортом мужества, которое умные люди не слишком ценят, да и не всегда, по наивности гордясь тем, что вечно служат тому, кто не является их другом. А этого юношу не назовешь грубым, неотесанным, невеждой, его можно сравнить с любым дубровницким аристократом, он был приятным собеседником, интересным спутником, он увлекся ею (это усилило ценность всех его качеств) и был настолько сдержан, что она даже с подозрением рассматривала себя дома в зеркале. Ей в голову не приходила мысль о любви, но она привыкла быть в центре внимания мужчин. С трепетом и некоторым смущением ожидала она очередного флирта, но, когда это не состоялось, была удивлена и с большим вниманием стала приглядываться к юноше. Хасан, юный и порядочный, не умел играть словами, которые ни к чему не обязывают ни его, ни женщину, он тоже не думал о любви и только радовался простым свиданиям. Однако любовь нашла его сама: вскоре он влюбился. Обнаружив это, он утаил свое открытие от нее, стараясь ничем не выдать себя. Женщина тем не менее сразу заметила, едва робкие огоньки вспыхнули в его глазах (ей пришлось признать, что они красивы), и, чтобы спасти положение, стала преувеличенно подчеркивать свою дружбу, нимало не стесняясь, вела себя как сестра. Хасан проваливался в любовь, как в бездну, или вздымался ввысь на гребне ее волны, и этому не приходилось удивляться: женщина была красива (упоминаю об этом мимоходом, в любви важно иное), обворожительно приятна (в любви это главное), она первая развеяла его смутную тревогу и убедила, что на свете есть вещи, о которых молодой человек не имеет права забывать безнаказанно.
Он помог ее мужу через одного боснийца, сына ювелира Синануддина, побыстрее завершить свои дела, ради которых он и приехал,— это касалось разрешения и привилегий в торговле с Боснией. Таким образом, Хасан приобрел дружбу ее мужа, к сожалению сократив срок их пребывания в столице, он радовался доверию, считая, что этим прощается ему грех любви, горюя из-за скорого расставания, которое породит тоску, еще более глубокую, чем раньше. То ли дубровчанин в самом деле почувствовал к нему доверие, то ли решил таким образом связать ему руки, а в людях он разбирался неплохо, то ли верил жене или был лишен воображения, то ли ему было все безразлично — трудно сказать, да и не он главное лицо в этой несуразной страсти. Я говорю «несуразной» и говорю «страсти», поскольку она и была такой. Напуганный или подстегнутый их скорым отъездом, Хасан признался Марии (ее звали Мейрима) в любви. Пораженный ее бледностью, хотя она услышала то, что уже знала, или по своей наивности Хасан сказал ей вещи, которые мудрому и опытному человеку не пришло бы в голову говорить: дескать, он не мог не объясниться, но сожалеет об этом, поскольку он друг ее мужа, возможно, он этим оскорбляет и ее самое, она ведь порядочная женщина, но все равно, он не может скрывать, так как не знает, что с ним будет, когда она уедет. Женщине пришлось прикрыться верностью мужу и семейной честью и вернуть его на безопасное место друга семьи. И диво дивное, искренняя наивность Хасана, кажется, победила ее неприступность, именно в этот момент она и полюбила его. Она воспитывалась в монастырской школе и, боясь грехопадения, подальше запрятала свою любовь, в самые дальние уголки сердца, заставив тем самым и его, осчастливленного ее любовью, не принуждать ее к откровенности силой. А поскольку он все рассказал ей о себе, открыв даже то, что не доверял никому, она предложила ему вместе с ними на корабле отправиться в Боснию через Дубровник, коль скоро его и без того ничто не удерживает в Стамбуле. Она хотела доказать и себе и ему, что не боится ни себя, ни его. Это будет немного lа route des écoliers, сказала она, объяснив, поскольку он не знал французского, что это означает путь подлиннее, но понадежнее, путь, которым велят детям возвращаться из школы. Она защищалась даже французским языком, ибо чувствовала, что приводит юношу в восторг знанием этого удивительного языка, созданного для женщин. Она упускала из виду, что он все равно восторгался бы ею, говори она даже по-цыгански. Равно как забывала о том, что опасно защищаться тем, от чего он в восторге. На корабле они виделись реже, чем надеялся Хасан. Купец плохо переносил качку и почти всю дорогу не вылезал из постели, страдая — его выворачивало наизнанку. Хасан знал об этом, до него доносился тяжелый запах, из-за которого часами приходилось проветривать каюту, но в тот самый миг, когда помещение было проветрено и вымыто, оно снова оказывалось опоганенным, а бедняга лежал пластом, желтый и мокрый, как на смертном одре. Он может умереть, думал юноша с опасением и надеждой, а позже раскаивался в своем жестокосердии. Мария в каком-то исступлении почти не отходила от мужа, чистила и проветривала каюту, утешала его, держала за руку, поддерживала ему голову, когда у него начинались судороги, что нисколько не уменьшало его мучений и нисколько не увеличивало ее любви к супругу. Когда он засыпал, она поднималась на палубу, где Хасан в нетерпении ждал момента, чтоб увидеть ее тонкую, гибкую фигуру, а потом с ужасом считал минуты, когда долг призовет ее в вонючую каюту, где, умиляясь собственной жертве, она мечтала о свежем морском ветерке, вспоминая звуки нежного голоса, говорившего о любви. Они говорили не о своем чувстве, о чужом, что, впрочем, одно и то же. Она вспоминала любовные стихи европейских поэтов, он — восточных, что, впрочем, одно и то же. Никогда до тех пор чужие слова не были им столь необходимы, а это равнозначно тому, как если бы они сами придумывали свои. Укрывшись от ветра за капитанской рубкой или за ящиками и палубными надстройками, они равным образом прятались за эту поэзию, и тогда поэзия полностью оправдывала себя, что бы о ней ни говорили. А когда женщина осознавала свой грех, когда чувствовала, что ей слишком хорошо, она наказывала себя, возвращаясь к мужу и принося себя в жертву.