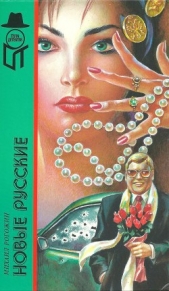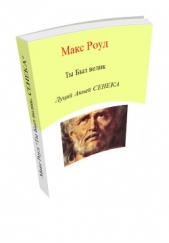Машинка и Велик или Упрощение Дублина (gaga saga) (журнальный вариант)
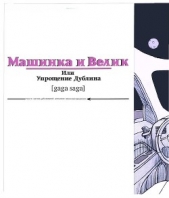
Машинка и Велик или Упрощение Дублина (gaga saga) (журнальный вариант) читать книгу онлайн
«Машинка и Велик» — роман-история, в котором комический взгляд на вещи стремительно оборачивается космическим. Спуск на дно пропасти, где слепыми ископаемыми чудищами шевелятся фундаментальные вопросы бытия, осуществляется здесь на легком маневренном транспорте с неизвестным источником энергии. Противоположности составляют безоговорочное единство: детективная интрига, приводящая в движение сюжет, намертво сплавлена с религиозной мистикой, а гротеск и довольно рискованный юмор — с искренним лирическим месседжем. Старые и новые русские образы, кружащиеся в разноцветном хороводе, обретают убедительность 3D-кадра, оставаясь при этом первозданно утрированными и диспропорциональными, как на иконе или детском рисунке. Идея спасения, которая оказывается здесь ключевой, рассматривается сразу в нескольких ракурсах — метафизическом, этическом, психоделическом, социальном. «Машинку и Велика» невозможно классифицировать в принятых ныне жанровых терминах. Ясно лишь, что это — тот редкий и вечно необходимый тип литературы, где жизнь алхимически претворяется в миф, намекая тем самым на возможность обратного превращения. Перед вами новое произведение загадочного Натана Дубовицкого, автора романа «Околоноля». Это не просто книга, это самый настоящий и первый в России вики-роман, написанный в Интернете Дубовицким вместе с его читателями, ставшими полноценными соавторами. «Машинка и Велик (gaga saga)» — книга необычная, ни на что не похожая. Прочтите — и убедитесь в этом сами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да разве это не выдумка твоя, про скит этот?
— Вера, вера где твоя, брат?
— Да, да, вера, верно… Но за три-то дня… Это же где-то на полюсе? Самолётом, что ли?
— Три не три, может, и четыре. Не помню я, в какое из семи воскресений до капитана Арктика очередь доходит. А самолётом нельзя. Денег нет на самолёт. Нельзя за деньги. За деньги чудес не бывает. Вера, вера, брат, твоя где? Через полчаса поезд проходит Адлер-Беловодье. Стоянка пять минут. Если сейчас пойдём, успеем…
— А билеты?
— Нет, нет билетов на чудо. Там, знаю, проводники добрые, даром довезут, за хороший разговор. Докатим до Караула к ночи. Это самая к полюсу ближняя станция. От неё пешком через лес, потом через поле — там и океан. Ну а уж по океану — легче, быстрее будет.
— Но за три-то дня как успеть?
— А вера на что? Вон божий человек Мухаммад, мусульманин, прости господи, а и то сподобился за ночь от Мекки до Иерусалима добраться и обратно вернуться. Неужто мы, православные, хуже чем? С нами бох!
— Так что ж мы там, на собаках, что ли? — всё допытывался Глеб.
— Ну вот сейчас видно математика! Всё алгеброй гармонию норовит прощупать. Ну какие, брат, собаки? С божьей помощью, а не с собачьей домчимся.
— Так не бывает.
— А вера? Вера на что? Верою, одной верой спасёмся, когда ничего уже другое не помогает! Вот и вся теория!
— Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, — прикрикнул один из толпившихся чуть в стороне чертей.
— По-русски говори, бусурман, — не оборачиваясь, парировал о.
— А с божьей помощью, это как — на корабле? — доставал Глеб.
— Тьфу, экий ты… Да сам не знаю. Знаю только, что доберёмся, успеем. Пошли.
— Пошли! Верую! — решился, растерявшись, Глеб Глебович.
— Вы с нами, окаянные? — обратился к чертям монах.
— …mit Narren sich beladen, das kommt zuletzt dem Teufel selbst zu Schaden, — пошутил Формозъ.
— По-русски, ребята, прошу вас, не до тарабарщины этой теперь, не до шуток, — мягко проговорил о.
— С вами я, — сказал Формозъ.
— И я, — пристал Агапитъ.
— И я, — поддержали Бонифаций, Буонапартий и Анаклетъ.
— Ладно! — усмехнулся довольно отец Абрам и размашисто пошёл на север, к станции; побежали за ним и Глеб, и черти.
Пустое окно влажно засветило на них отражённым мирозданьем, замироточило и взошло над городом, спугнув и отогнав за овраги подкравшиеся было сумерки.


§ 38
Простые, нередкие слова, которых полно повсюду — и в широких глубоких величавых речах, и в мелких извилистых стрекочущих речушках, — хороши для изображения рядовой, нередкой любви: как Кривцов любил садовницу, его жена Глеба, Варвара — Фундукова, Грецкого и Дылдина, Бур Щупа, Щуп Бура, а Человечников Маргариту, рассказать нетрудно. Взял две-три классические фразы, вкрутил в нарратив, и уж всем всё понятно, вся картина пылкости развернулась, открылась на обозрение. И понятно всё всем оттого, что знакомо. Каждый как-нибудь, да любил — или как генерал садовницу, или как Че Острогорскую, или как Глеб Глебович Варвару, или как Глеб Глебович Надежду, или даже (и что ж теперь! и ничего страшного! бывает) как Бурмистров Рощупкина. И у каждого на памяти вкус любви и сопутствующие ей слова.
Но из каких слов сделать картину о Машинке и Велике, о том, что между ними было? Что и любовью-то назвать скорее всего нельзя. Что почти не помнится, потому что из низин и провалов, образующих наши судьбы, плохо видно то, что было там, высоко в детстве. Да и не у всех было-то, не у всех. Любовь? Влюблённость? Игра? Увлечение? Дружба? Подражание взрослым? Какие хорошие и негодные слова! Как они грубы в сравнении с тем, что призваны в данном случае передать! Как неудобны в обращении с детскими душами!
Что же? и каким же тоном надо сказать или, лучше, пропеть о том, как впервые отчего-то нежно покраснел мальчик, не впервые посмотрев на давно знакомую девочку? Какое незнакомое тепло он обнаружил в себе и осторожно трогал дрожащим тонким сердцем. А потом овевал этим теплом Машинку при встрече, при обрывистом разговоре, при долгом молчании. Отчего Машинка вдруг от этого тепла расплакалась и удивилась, плача, что слёзы её теперь несолёны. Как Велик расспросил отца, каким образом играются свадьбы; и Глеб поличному опыту отвечал ему, что для свадьбы берётся пароход, грузятся на него музыканты, пляшутся на нём танцы, и едет пароход по реке, и невесте дарится женихом колечко. Как мальчик смастерил из алюминиевой проволочки и бусинки крохотный перстенёк.
Что и с каким выражением надо сказать о небезопасном катании двух детей без присмотра в лодке вместо парохода по зелёному, как лужайка, пруду на дне заброшенного карьера? О вручении мальчиком девочке перстенька и о робком, чтоб не раскачать лодку, танце под Митю Фомина из айпада: лалалалааала, всё будет хорошо… О влажно скользнувшем по Великовой щеке, словно стремительная слеза, Машинкином поцелуе. И как угощались потом мороженым и после этого брачного пира не знали, что теперь им, поженившимся, делать друг с другом. О сексе они, конечно, слыхали и даже кое-что видали про него в интернете, но полагали, что не их это дело, какое-то оно чужое, для взрослых, непонятное. Поэтому разошлись по домам; Машинка перед сном опять всплакнула от необычайно приятной грусти; а Велик долго не мог уснуть, укладывая в голове так и норовивший вылезти наружу большой секрет о тайном их браке. И это так недавно было, в сентябре, кто же знал тогда, что так всё повернётся… что придут злые дни, неизвестные злыдни придут забрать их…
Что и какой высоты голосом следует говорить об смсках, которыми они переписывались, бесконечно будничных, почти бессмысленных из-за того, что от избытка нежности и застенчивости для помещения смысла не оставалось в словах необходимой пустоты? О том, как они, встречаясь, бывали так смущены оба, что даже поздороваться не могли и сначала долго молча играли, пока, разыгравшись, не заговаривали: сначала на вымышленные из игры темы, озвучивая каждый свою игрушку, и только далеко после друг с другом друг о друге. Чем повествовать, какими средствами об этих чувствах? О — деликатнейшем рисунке их ткани, сотканной из чистейшей хрупкости и быстротечности без малейшей примеси чего-либо тяжкого, железного, вечного. О — простодушной беспечности, о — безумной доверчивости детей, бесстрашно расположившихся со своими биониклами, дудлерами и смешариками для игры посреди большого взрыва вселенной, хотя и остывшего и замедлившегося за давностью лет и происходящего в наши дни уже в темпе и силе неторопливого всеобщего гниения, но всё же по-прежнему разрушительного и опасного. О, наконец, трогательной обречённости летучих утопий, возводимых детьми над нашей грязью, осаждённых драконами, пьяными родителями, свирепыми генералами; кем ещё? войнами, бандитами, маньяками, болезнями; кем ещё? всеми нами? почти всеми… О том, что обречённость в некоторых обособленных русских языках синонимична красоте…
Нечем повествовать! Нет слов, не оставляющих пятен на душе; замусолены и сальны слова, как фраки и мундиры с театрального склада, помогающие нищим лицедеям (лицемерам!) притворяться на сцене графами.
Скажем только, что известно всем и потому может быть сказано: незнакомое тепло, коснувшееся детей, не было «признаком великой весны», не предвещало благодати, потому что не само по себе существовало. Оно лишь свидетельствовало о приближении возраста жары и жажды, о том, что не за горами уже раскалённая пустыня неутолимой страсти, пустыня только для взрослых, где мужчины и женщины хотят друг друга и хватают друг друга за сухие колючие тела, и въедаются друг в друга, и не могут насытиться. Из этого-то пекла истекло странное тепло и достигло на отдалённых подступах Велика и Машинку. Но чем ближе к источнику, тем теплее, а потом и горячее и суше, а потом и вовсе горячо, невыносимо горячо, только горячая горечь, слаще которой нет ничего, называемая похотью.