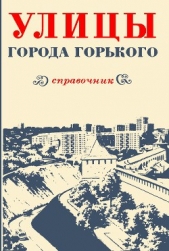Завещание убитого еврейского поэта

Завещание убитого еврейского поэта читать книгу онлайн
Роман известного писателя, лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля рассказывает о почти неизвестном еврейском поэте. Сменив веру своих предков на веру в коммунистические идеалы, он в конце концов оказывается в застенках советской тюрьмы в разгар «борьбы с космополитизмом». Несмотря на хрупкий и нервный характер, поэт выдержал все пытки и никого не предал. Однако следователь находит способ заставить его разговориться: он предлагает заключенному написать воспоминания…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Раиса захотела узнать, чем я занимаюсь на гражданке. Служу корректором, сказал я. Она сняла пилотку, и светлые волосы, распустившись, упали на китель. Мне захотелось до них дотронуться, только коснуться, даже не погладить, я знаю, это глупо, но она сама виновата. Я ее раньше ненавидел, она меня презирала. Теперь я переменился. Она — тоже. Теперь мне хочется потрогать ее волосы. Мои приятели смотрели на нас во все глаза, ничего не понимая: Раиса никогда не снисходила до дружеских отношений ни с одним из подчиненных. Они пытаются прислушиваться, но мы говорим очень тихо. Словно исповедуемся друг другу.
— А что делает корректор?
Начинаю объяснять, в чем заключается эта работа, но обрываю себя на полуслове:
— Я еще кое-чем занимаюсь.
Раиса удивленно раскрывает глаза:
— Чем же?
— Я — поэт.
Последние слова я произношу почти беззвучно. Она оживляется:
— Настоящий поэт? Как Исаковский?
— Нет, Исаковский знаменит, его стихи читали даже в окопах. А мои…
— И что же с твоими?
— Мои знаю только я один. Думаю, они не очень хороши…
— Ты мне их почитаешь, правда? Обещаешь?
Я кивнул:
— Обещаю.
— Завтра я за тобой зайду, и мы погуляем по парку.
После чего она тотчас переключилась на других, на Дмитрия, Льва, Алексея. А я уже не слушал, так меня разбирали желание ей понравиться и боязнь показаться смешным.
Конечно, мне не надо было упоминать о своих стихах. Что она знает о поэзии? Что это песни, исполняемые шепотом? Порывы восторга или угрызений, молитвы неверующих? Может ли она оценить их, учитывая, что написаны они на идише? Впрочем, я пытался умерить свои чувства. Напрасно я так себя грызу: она не придет, прогулки не будет, я не выставлю себя перед ней идиотом, декламируя стихи. Я сперва любил Раису, потом считал ее стервой-карьеристкой, затем снова любил, потом… Да пошла она к черту, я уже не питаю к ней ни любви, ни злости. У меня сейчас другие заботы. Что я буду делать в СССР? Где жить? Где работать? Может, мне следует навестить семейство Лебедева в Витебске? Какой же я дурак! В Витебске сейчас больше нет евреев. Хорошо. Отправлюсь куда-нибудь еще. К Мите и его бабушке, например. Куда угодно. Найду где-нибудь местечко, где еврейский поэт сможет жить, обеспокоив как можно меньше людей.
Разумеется, я ошибался. Раиса пришла, как и обещала. Что до моих стихов, она настаивала на том, чтобы их услышать.
Так я стал жертвой собственной поэзии.
Люблин не так пострадал, как большинство крупных городов. Мало разбомбленных домов. Почти нормальная жизнь. Полные соборы. И рестораны. Русские и польские солдаты братаются. Под деревьями парни и девушки заново открывают для. себя радости любви.
Я был еще слаб, ходил с трудом, правой рукой опираясь на Раисино плечо. Иногда, оступаясь, я невзначай касался ее груди, и кровь ударяла мне в голову. Мы шли с частыми остановками, чтобы я мог чуток передохнуть. Наконец я предложил ей сесть на скамейку, она помогла мне на нее опуститься и снова заговорила о стихах.
— Тебе действительно это важно? — спросил я.
— Читай, я отвечу потом, — приказала она.
— Но ведь ты не поймешь…
— Солдат, ты дерзишь.
— Да нет, я только хотел сказать, что тебе будет непонятно, потому что стихи не по-русски. Я пишу на языке идиш.
Она даже не моргнула:
— И что с того? Я понимаю идиш.
Ну да, она выучила этот язык в детстве. Ее дед и бабка говорили с ней именно на нем. Я спросил ее, где они сейчас, но она не отозвалась. Ее глаза потемнели. Помолчав, она только обронила:
— Умерли.
— Когда?
— Не знаю.
— Где?
— В Бердичеве.
Тут я перестал замечать и белизну облаков над головой, и зелень деревьев, и гомон людского потока, мерно текшего к центру Люблина. Я вытащил из кармана несколько листков бумаги и принялся читать. Она меня резко оборвала:
— Хватит. Это тяжело и никуда не годится. А что-нибудь повеселее у тебя есть?
Я отрицательно замотал головой. Нельзя было поддаваться ее настояниям. Она слишком холодна и замкнута, чтобы понимать такую поэзию. Сложив листочки, я убрал их в карман. Раиса злобно отчеканила:
— Поэты обязаны воспевать любовь или родину, либо то и другое вместе. Почему ты не хочешь делать то же, что и все?
Она была в такой ярости, словно своими стихами я хотел обмануть и оскорбить лично ее. Ледяные глаза смотрели с ненавистью. Внезапно она встала со скамейки:
— Надо возвращаться. Сил никаких нет, такое пекло… Устала…
Наперекор расслабляющему зною и притягательности ее сильного тела пытаюсь идти без поддержки. У двери она бросает меня и, ни слова не сказав, уходит. Плетусь к своей кровати, валюсь на нее и, прежде чем уснуть, гоню из головы единственную мысль: у меня нет ни одного шанса состояться как поэт. Как соблазнитель я тоже ничего не стою.
Раиса появилась в тот же день, спустя несколько часов. Выглядела она еще более разъяренной, чем утром. Из плотно сжатых губ доносилось какое-то шипение, и я подумал: «Ни дать ни взять белокурая кобра». Она растолкала меня:
— Просыпайся!
Тру глаза. Говорю ей, что устал от долгой ходьбы.
— Да подымайся же!
Встаю, плетусь вслед за ней, забираюсь в ее машину, которая тотчас срывается с места. Мы едем минут десять, не больше, и перед нами встает Майданек с его вышками и колючей проволокой, застывший в своей всегдашней зловещей угрюмости. Раиса бросает:
— Коль скоро тебя вдохновляют только ужасы, оставайся здесь и жри их, сколько влезет!
Я вылезаю из машины, уверенный, что она последует за мной, но тут она снова выкидывает номер: что-то отрывисто приказывает шоферу, и машина скрывается из глаз, оставив после себя лишь облако пыли, светло-серой, как человеческий пепел.
Когда я проник за ограду Майданека, не могу вам передать, гражданин следователь, что я испытал: распространяться об этом было бы по меньшей мере непристойно. Скажу только вот что: я забыл об усталости, о своих разочарованиях, иллюзиях — обо всем. Я часами ходил там, ходил, пока не опустилась ночь. Обошел все бараки, камеры, потрогал и погладил все камни, поцеловал двери, за которыми целый народ, мой народ, огненным облаком взлетел к небесам. Я, конечно, не собираюсь рассказывать вам о Майданеке, об этом и так написано довольно, пусть слова тех, кто там выжил, останутся живыми и полнозвучными, незачем заглушать их моими. Важно только сказать вот что: мне хотелось бы там обрести покой. Вечный покой. Остаться вместе с теми невидимыми мертвецами, так же, как они, биться головой о стены, о потолок, ловя ртом остатки воздуха, погружаться в их безумие, шепча и крича, молясь и проклиная Бога, твердить себе: «Этого не может быть, они не мертвы, а я не жив…» Никогда я так не желал сойти с ума и кануть в вечность, как в тот вечер в Майданеке.
Скорчившись в крайнем бараке, я позволил сумеркам сгуститься надо мной, прислушиваясь к предсмертным хрипам, крикам ужаса, которые принесла ночь, набросив на них свои темные покровы. Я слышал шепот детей, прижавшихся к матерям, различал их молчание, в котором сквозила вечность, пусть и униженная, умерщвляемая. Клялся себе, что никогда их не покину.
Я там был один, ни разу в жизни я еще не был так одинок. И все же мне слышался голос, который шептал, утешая: «Уходи отсюда, твое место среди живых». И еще я услышал: «Раиса права, тебя слишком притягивает все мрачное». И еще: «Раиса молода и красива, чего медлить? Иди к ней, люби ее». Но я сопротивлялся: «Зачем требовать от меня невозможного? Сейчас не время и не место для этого». Однако голос не унимался: «Ошибаешься, именно здесь и сейчас ты обязан побороть тягу к бездне, что одолевает тебя: ведь именно тут все чернее и бездоннее, чем где бы то ни было».
Я узнал этот голос. Мне хотелось подчиниться его велениям, признать правоту этих слов, но я не мог. Я только что усвоил главнейшую истину: мой внутренний взгляд уловил рисунок самых свирепых конвульсий человеческого бытия, от них невозможно было оторвать глаз, я следил за ними уже вне пределов лагеря и теперешней жизни — уносясь куда-то к небесам, к небесному престолу; именно там я, молчаливый могильщик, обращался к Богу и шептал: «В детстве я верил, так как мне внушали, что это правда, будто нельзя произносить Твое имя или отрицать, что Ты есть, а еще невозможно словами выразить, кто Ты. А теперь я знаю: Ты, Бог моих предков, — не кто иной, как могильщик. Ты отдаешь Свой избранный народ земле, как я погребал подобранных на поле битвы солдат. Твоего народа больше нет, Ты его похоронил. Убили его другие, но именно Ты опустил его в могилу, которой ни увидеть, ни сыскать. Скажи, Ты, по крайней мере, прочитал над ним кадиш? Оплакал ли Ты его гибель?»