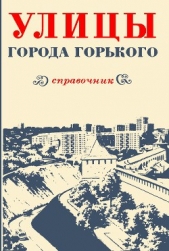Завещание убитого еврейского поэта

Завещание убитого еврейского поэта читать книгу онлайн
Роман известного писателя, лауреата Нобелевской премии мира Эли Визеля рассказывает о почти неизвестном еврейском поэте. Сменив веру своих предков на веру в коммунистические идеалы, он в конце концов оказывается в застенках советской тюрьмы в разгар «борьбы с космополитизмом». Несмотря на хрупкий и нервный характер, поэт выдержал все пытки и никого не предал. Однако следователь находит способ заставить его разговориться: он предлагает заключенному написать воспоминания…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Моя же война закончилась именно в Люблине. Я выносил молодого солдата из-под огня. Он был красивый и легкий, как младенец. Я ему говорил то, что по привычке повторял всем мертвецам: «Не беспокойся, парень, сейчас прибудем на место». А он, как мне чудилось, возражал: «Мы никогда не дойдем». Советовал мне быть поосторожнее, предупреждал о снайперах и шальных пулях, о минах. Но это легко сказать: остерегаться мин. Можно подумать, на передовой существуют переходы с указателями. Со своим ангелом-хранителем за плечами я шел к цели, оступаясь и покачиваясь… а потом куда-то взлетел. Глаза обжег болезненно ярко-багровый всполох. Когда я открыл их, оказалось, та огненная вспышка швырнула меня в канаву. Мой солдатик уже не был ни молодым, ни даже бойцом: только трупом без головы и ног. Но он спас мне жизнь: меня лишь ранило. Затем операции, провалы из бреда в сон, пробуждения с затуманенными мозгами… тяжелые веки, каждое с десяток тонн…
Фронт уходил вперед, мое тело цеплялось за Люблин, а я — за тело. Меня перевозили из одного госпиталя в другой, для этого иногда имелись свои резоны, а порой и нет. Разные хирурги, молодые и старые, склонялись надо мной и озабоченно качали головами. О моем сердце совсем позабыли, интересовались только поломанными костями. И тоже ободряли меня: «Не волнуйся, солдатик, все будет в порядке».
Словно через влажную марлю, я смотрел, как проходили по палате врачи и медбратья, слышал их голоса, их шепот. Был ли я жив? Если да, то зачем? А ежели мертв, почему рядом со мной нет отца? В одном я был совершенно уверен: могильщики тоже смертны. Эта мысль меня не оставляла. Иногда, чтобы сменить тему, я прикидывал, где это может произойти. В Люблине? В моей голове еще отдавались эхом великие имена, с ним связанные: люблинский раввин Цадок, Ешива здешних мудрецов… Отец страстно желал бы, чтобы я навсегда связал себя с этим местом. Однажды я подозвал Борьку, одесского еврея, служившего здесь санитаром, весьма ушлого и решительного малого, и спросил, не может ли он сослужить мне службу?
— О чем разговор, скажи только, что сделать? Могу отослать тебя в Москву, например. Или устроить хороший закусон. А может, нужна подружка? — Он хохотнул и хлопнул себя по ляжкам.
— Сделай милость, — едва слышно сказал я, — если я умру…
— Да ты совсем спятил! — возмутился он, перестав улыбаться. — С чего тебе умирать, когда ты почти поправился?
— Если я умру, устрой, чтобы меня похоронили на здешнем еврейском кладбище.
— Нет, ты точно рехнулся!
— Ну же, Борька, ты мне обещаешь?
— Обещаю: ежели не прекратишь, засуну тебя в первую же подвернувшуюся канаву.
— Боренька, умоляю, для меня сейчас нет ничего важнее этого!
— Ну тут уж ничего не поделаешь, идиот ты этакий, ты не подохнешь в Люблине. И так слишком много евреев здесь поумирало.
Госпиталь между тем перевели в начальную школу. Там меня снова прооперировали, довольно удачно, и через три месяца перевели в отделение, где лежали шедшие на поправку. Там я, несмотря на слабость, смог участвовать в разговорах больных. Обсуждали стремительное продвижение наших войск, тактику маршала Конева, стратегию Жукова, заключали пари, кто из них первым войдет в Берлин. Было понятно, что войне скоро конец. Некоторые раненые уже подумывали о том, как бы попасть в запасные части: кому охота умереть героем накануне победы?
Раиса часто заходила в госпиталь. Получив капитанский чин, она отлавливала самострелов. У нее на них был наметанный глаз, а пойманных она поносила на чем свет, обзывая тряпками, предателями и трусами. Ее боялись, как бури на море.
Во время своих инспекционных походов она с рассеянным видом останавливалась то там, то здесь, делая вид, что желает вставить словцо. На самом же деле ей хотелось составить собственное мнение о моральном духе подведомственных ей бойцов.
Узнала ли она меня? Похлопав по гипсу, закрывавшему мою грудную клетку, она спросила однажды:
— Когда же ты скинешь его ко всем чертям?
Но смотрела она при этом не на меня, а на мой гипсовый доспех. Я ответил:
— Как бы скоро это ни случилось, боюсь все же опоздать, товарищ капитан.
— Хорошо отвечаешь, солдат, правильно. Но тем не менее поторапливайся, понятно?
На других она покрикивала:
— И вам не стыдно тут разлеживаться? Гнить заживо, словно старые обленившиеся купчихи, когда ваши славные товарищи бьют врага уже за границами СССР?
Иногда она сообщала нам боевые сводки:
— Краков наш, враг выбит из Катовиц, Сосновица взята практически без боя, мы идем на Берлин, а вы здесь только и знаете, что храпите! Вам не стыдно?..
Словно мы в чем-то провинились… Может, она так старалась нас подбодрить? Или выказать свое недовольство? Ведь она была сама не своя от ярости, что столь важные события разворачиваются в такой дали от нее. Люблин-то уже принадлежал прошлому. Газеты сообщали о новых атаках и победах, линия фронта все более отдалялась, а она, капитан, политрук, вынуждена была присматривать за кучкой инвалидов и симулянтов.
Еще немного, и она готова была сделать нас виноватыми в своем невезении: без нас и наших проклятых ранений, без треклятых госпиталей она стояла бы сейчас рядом с маршалом Жуковым или Коневым и партия могла бы ею гордиться. Ее ждали бы заслуженные награды. Получалось, что мы всему виной, и Раиса не скрывала раздражения, которое росло день ото дня. Каждое сражение, всякая победа приносили ей новую горечь.
А с меня сняли гипс только в апреле. Ослабевший, я не вставал с кровати и ждал, когда меня оттуда увезут, но дело почему-то стопорилось. Наконец настал май и с ним — немецкая капитуляция. Наша дивизия должна была пройти парадом по Люблину. Вышло все великолепно. В Москве мы промаршировали бы с триумфом. Ну ладно, я, наверное, преувеличиваю. Но только чтобы стало понятно, что мы чувствовали, когда полки, во всем вычищенном и отдраенном, с офицерами в парадной форме, прошли перед трибуной, где стояло начальство во главе с генералом Колпаковым и его штабом, отдавая честь нашим знаменам.
Даже самые заморенные, полуживые из нас, и те ликовали. Подвыпив, принимались что-то напевать, хлопали в ладоши. Вопили: «Да здравствует товарищ Сталин, да здравствует СССР!» Троекратно хором кричали «Ура!». Люди танцевали в парках, в скверах, на улицах, целовались, незнакомые дарили друг другу подарки, делились недавними приобретениями. В этот счастливейший день нашей жизни мы веселились от всей души, наслаждаясь каждым мгновением, любым воспоминанием и даже боевыми ранениями. Ведь мы победили, мы остались живы — ура и трижды ура! Нам принадлежит будущее, теперь наступит счастье. Грудь аж распирало от гордости: мы свалили такого зверя! Будущие благодарные поколения этого не забудут!
В ту ночь никто не спал.
День или два спустя нам сообщили, что в первых числах июня нас отправят с ближайшим составом домой. Но сначала мы должны предстать перед комиссией для освидетельствования.
И вот однажды утром Раиса появилась в нашей палате с охапкой личных дел под мышкой. От ее холодной улыбки у нас поползли мурашки. Как обычно, она прошла меж кроватями, задерживаясь около какого-нибудь солдата либо сержанта, чтобы его хорошенько пугнуть. Вдруг ее синие глаза уставились на меня, на губах заиграла улыбка, настоящая, по-женски обворожительная. Она спросила:
— Ну что, солдат, хочешь поехать домой?
— Еще бы, товарищ капитан!
— Соскучился по родине, да?
— Ужасно, товарищ капитан!
— Ты откуда?
— Не знаю, товарищ капитан!
— Не знаешь? Но должна же у тебя быть где-то семья, дом?
— У меня никого нет, товарищ капитан!
И тогда она, Раиса, сделала то, чего от нее никак нельзя было ожидать. Она присела ко мне на кровать. Может, я ее заинтересовал? Или вызвал какие-то подозрения? Она расспросила меня о моей армейской службе, о личной жизни. Казалось, она забыла нашу первую стычку, все это было так давно, что… Да нет, она ничего не забыла, просто меня не узнала. Я подумал: не напомнить ли ей? Но промолчал. Раиса мне улыбнулась. Я что-то сказал. Она перестала улыбаться. Что до истории с немецким пленным… Даже если бы я дотащил его до операционного стола, за которым стоял мой друг Лебедев, тому все равно бы не жить. Он бы умер прямо под ножом или после, на дальнем Севере. В любом случае о нем лучше не вспоминать. Война кончена, Германия побеждена, и, что сейчас важнее всего, Раиса мне улыбается. Она-то уже не думает об убитых пленных, а мне с чего о них печалиться? Она — капитан, я — солдат. Остается только говорить: «Так точно!»