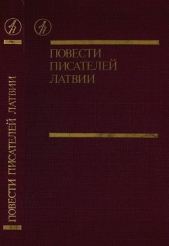Дом одинокого молодого человека: Французские писатели о молодежи

Дом одинокого молодого человека: Французские писатели о молодежи читать книгу онлайн
В сборник вошли лучшие рассказы и повести о молодежи, появившиеся во Франции за последние 10–15 лет. В нем представлены как классики современной французской литературы, ее старейшины — Р. Гренье, А. Дотель, Э. Вазен, Б. Клавель, Э. Роблес, так и замечательные мастера среднего поколения — Ж.-М. Г. Леклезио, Р. Вриньи, Ж.-М. Робер, а также яркие восходящие звезды — К. Риуа, А. Надо, П. Бессон.
Сборник не только рассказывает читателю о том, как живут, что думают, о чем мечтают молодые французы, но и знакомит с живым литературным процессом во Франции наших дней, поскольку в нем участвуют авторы самых разных направлений, традиций и творческих манер.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Весь ужас заключался в автоматизме ее движений при входе в госпиталь: достать карточку 1115, клац, поставить карточку. Сегодняшнее неправильное время еще больше подчеркивало абсурдность ее поведения. Но как быть: в отличие от своих товарок, которые в дни такого вот саботажа табеля не отбивали, Эмма ничего не могла с собой поделать. Как только она переступала порог двери табельной, она выбрасывала руку, хватала карточку, клац, пробегала глазами отбитое время, поворачивалась, ставила карточку на место, выходила — столь же мало задумываясь над своими действиями, как при дыхании и ходьбе. Более того, этот самый «клац» стал ей просто необходим, как электрический разряд или звуковой сигнал какому-нибудь подопытному кролику. Ни панорама госпиталя, открывавшаяся перед ней, когда она доходила до прогулочной площадки, ни гулкая арка центрального входа не имели над ней такой удивительной власти, как это сухое клацанье отметчика, которое открывало в ней двери для другой Эммы — Эммы-прачки-номер-1115.
Она вышла из табельной, уткнувшись носом поглубже в шарф и опустив глаза, поскольку не успела накраситься, — в надежде, что Жером Сальс, если попадется навстречу, не узнает ее. А все из-за меньшого братишки, который проснулся сегодня слишком рано, с ревом и очень ее задержал. Она могла вообще закрыть глаза и все равно бы вышла прямо к прачечной, даже не считая шагов, не ориентируясь по запахам. Словно она сама выпускала из себя дорожку, ведущую от внутренних служб к центральной прачечной, а потом прятала ее, вбирая на обратном пути, чтобы снова развернуть под ногами на следующий день точно такую же. Как будто за десять дет в ее организме образовались две новые, зловещие тайные железы, перерабатывающие расстояние и время.
Справа, на двери, преграждавшей вход в подвал, был прикреплен плакат «ПЛАН ОРСЕК». Цепь и висячий замок, на которые запиралась дверь, сама амбразура были покрыты таким густым слоем ржавчины и пыли, уплотнившейся со временем, что начать здесь работы по плану Орсек было невозможно, не осуществив предварительной операции, по крайней мере столь же значительной по размаху, которая позволила бы получить доступ к оборудованию. На плакате кем-то была сделана надпись ручкой: «Всякий план Орсек должен предваряться еще одним планом Орсек», а аварийное состояние помещений породило такую служебную инструкцию: «По причине работ по реконструкции, которые будут начаты согласно плану Орсек, просим персонал не ходить по переулку Доктора Шарве, а следовать либо через двор богадельни, либо по улице Св. Анны, со стороны Центральной больницы». Подписано начальником внутренней службы Валлоном. Инструкция была приколота на доску объявлений всех служб семь с половиной месяцев назад, но работы еще не начинались. Но этой причине персонал продолжал следовать по переулку Доктора Шарве. Валлон уже утверждал, что реконструкцию помещений не могут начать потому, что персонал упорно не желает менять своих привычек. В жизни госпиталя связь причин и следствий поддавалась пониманию труднее всего.
Пройдя еще несколько шагов, Эмма оставила слева позади себя крематорий. Иногда здесь пахло горелой плотью. Не мясом, а человеческой плотью. И все дышали этим запахом, не говоря ни слова, если этого не замечать, разве что лишь про себя, если не подавать виду, что воняет, то запах исчезнет сам собой. Эмма силилась ничего не представлять себе. Однако она не знала задачи более трудной, чем избавиться от навязчивого образа. Образ, заставлявший ее осознать эту вонь, всегда воплощался в одной и той же картине: чья-то отрубленная рука, обыкновенная рука без всяких украшений, которую сначала выбросили на помойку, а потом привезли в крематорий и сжигают вместе с компрессами, бумажками, ватой, бог знает с чем еще и бог знает почему. В жизни Эмма ничего подобного не видела. Сейчас, между 5.49 и 5.56, крематорий, на который она старалась не смотреть, казался просто серой громадой, поскольку еще не работал. А вот когда она уходила — между 14.08 и 14.32 (это зависело от того, сколько времени она оставалась поболтать с вечерней сменой), то видела там яркий свет, а перед этой дверью в ад — черный силуэт рабочего. Эмма никогда не здоровалась с ним, хотя была очень общительной, как никогда не здоровалась она и с Гастоном, работавшим в морге. Порой она спрашивала себя, не один и тот же ли это человек, только способный раздваиваться. Однажды, когда она поделилась своими подозрениями с санитаром Жеромом, тот, расхохотавшись, ответил: «Если подумать, для него это было бы совсем недурно, ведь он получал бы двойную зарплату!» — «Вот уж чисто еврейская мысль», — заметила мадам Сарро. Зато у этого так называемого еврея был чудесный смех, возбуждавший желание. Во всяком случае, у Эммы он вызывал неодолимое стремление прижаться грудью и животом к телу этого человека, что всегда с одинаково ровным настроением возил свою каталку, будь на ней тяжелый травматик, либо спеленутый смирительной рубахой сумасшедший, либо какое-нибудь непонятное существо-самоубийца, погруженное в к о му, или коробки с компрессами, или труп, или совсем ничего и никого. Однако еще не могло быть и речи о том, чтобы коснуться хотя бы руки Жерома Сальса: всего полгода назад они стали попадать друг другу навстречу в коридорах и перекидываться парой слов.
Переулок выходил на просторный двор. Когда-то между зданиями в глубине его и богадельней находились лишь две большие ямы, нечто вроде квадратных колодцев, окруженных невысоким парапетом, царство голубей и крыс, куда сбрасывались пищевые отходы, отправлявшиеся затем на ферму, свиньям. Персоналу госпиталя категорически запрещалось пользоваться пищей, оставшейся после раздачи больным, дабы не лишать свиней жратвы, а госпиталь — доходов от их продажи. Существовала специальная служебная инструкция на этот счет. Самым большим удовольствием для главной надзирательницы было явиться неожиданно в службы и застать за едой служащих, начерпавших из больших котлов пюре или тушеные овощи, чтобы не тратиться на обед в снэке. [11]И тут уж мадемуазель Гийе, злорадно торжествуя, сыпала упреки направо и налево. Когда во дворе стояли одни только свинячьи колодцы, прачкам было видно, как она выходит из первого административного корпуса. В зависимости от направления, которое она избирала, Эмма или кто-нибудь из подруг звонили в две-три службы, куда она могла нагрянуть. Но потом построили щитовые домики, где разместились кардиология и дерматология (и они как временные стоят вот уже десять лет). Тогда стало невозможно определить, свернет ли мадемуазель Гийе во флигель неизлечимых больных, в пневмологию, в педиатрический центр или же в отделение общей хирургии, а то еще в сектор неврологии-психиатрии-нейрохирургии. Пришлось бы обзванивать до пятнадцати различных служб. Эмма в этом случае связывалась с дерматологией и кардиологией, но редко бывало, чтобы на другом конце провода брались выследить главную надзирательницу и предупредить службы, которым угрожала опасность и куда она направлялась, ускоряя шаг и ликуя заранее. Женщина, бравшая трубку, отговаривалась тем, что «в службах по уходу за больными есть дела поважнее, чем игры в эти игрушки».
И в голосе бывало столько презрения, что Эмме приходила на ум мысль, не существует ли, помимо официальной иерархической лестницы, еще одной системы, более коварной, раз неуловимой, еще более самоуправной, чем эта. Все службы по уходу за больными в таком случае, должно быть, стоят над всеми техническими службами — прачечной, центральной кухней, ремонтными, малярными, стекольными мастерскими и т. д. и организационно должны строиться по восходящей линии — точно так же, как терапия и хирургия специализироваться на все более благородных органах человека и требовать для своей жизнедеятельности самой что ни на есть мудреной разветвленности. Поскольку администрация составляет еще одну отдельную пирамиду, этим, вероятно, и объясняется, что презрение кубарем скатывается на Эмму и ее подруг со всех сторон, создавая у них впечатление, что они находятся в точке схождения сразу нескольких его потоков. Заинтересовавшись этим вопросом, санитар Жером сказал, что ни сектантством (по которому нет доказательств), ни моральным ущербом (как не поддающимся измерению) профсоюз заниматься не может. За невозможностью разрешения этой проблемы ответ санитара имел по крайней мере ту пользу, что теперь позволял Эмме, когда она, бывало, чувствовала себя задетой, в который раз сказать себе, что нанесенная ей рана есть моральный ущерб, прямое следствие сектантства.