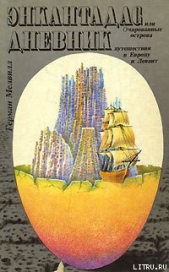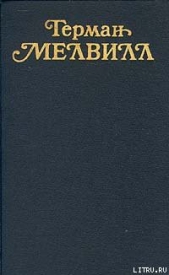Спящий мореплаватель
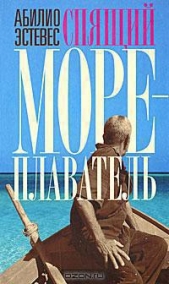
Спящий мореплаватель читать книгу онлайн
На Кубу надвигается страшный тропический ураган. Представители нескольких поколений семьи Годинес заперты в старом доме на побережье. Им предстоит терпеливо пережидать бурю под одной крышей, словно в Ноевом ковчеге.
«Революция приучила кубинцев все время чего-то ждать», — говорит писатель Абилио Эстевес. Но один из героев его романа ждать не намерен: воспользовавшись затишьем перед бурей, он отвязывает от причала старую лодку и берет курс на север, прочь с Кубы. Так когда-то поступил и сам автор, покинув «остров Свободы» в поисках этой самой свободы. Эта книга не о том, как люди бежали от революции, а о мечтах, счастье, свободе и о том, как страшно, когда в жизни им не остается места…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Растерянные и изумленные, словно они были свидетелями какого-то экстраординарного события, появились Валерия и Немой Болтун.
Хуан Милагро и Полковник по очереди постучали кулаком по корпусу часов, ничего не добившись. Они положили часы на пол, как мертвеца, но от этого часы не перестали бить. Они постучали по задней стенке корпуса.
— У тебя есть ключ? — спросил Хуан Милагро у Оливеро.
У Оливеро никогда не было ключа от семейной реликвии. Для чего нужен был ключ, если часы не показывали время и, в довершение всего, били когда хотели и сколько хотели? Зачем нужен был ключ, если маятник часов, блестевший золотом, несмотря на годы, был недвижим, как окоченевший труп? Кто знал, где, в каком старинном, бог знает каких времен сундуке остался лежать ключ, открывавший корпус из славонского дуба?
Вопрос Хуана Милагро, повторенный теперь Полковником, переключил всеобщее внимание с часов на Оливеро, хозяина часов.
Часы не переставали бить, взгляды всех присутствующих были обращены на него, и он понял, что от него ожидают решения. Он понял, что ему следует что-то предпринять. Он подошел к часам. Церемонным жестом, словно это был священный предмет, взял из рук Полковника мангровую палку. И, полагая, что осуществляет всеобщую волю, ударил изо всех сил. Стекло, защищавшее маятник, сразу разбилось. Маятник, который до сих пор висел строго по центру, дрогнул, наклонился, отломился и упал на дно корпуса. Циферблат поддался не сразу. Сначала он треснул в нескольких местах, затем от него отломилось несколько кусков. В одно из образовавшихся отверстий Оливеро засунул палку и, используя ее как рычаг, надавил, отдирая циферблат. Показались колки, валики, шестеренки, пружины, колесики и молоточек, который все еще ударял по маленькому колокольчику. Оливеро вернул Полковнику мангровую палку, рукой вырвал колокольчик и остановил молоточек.
И тут все услышали, что снаружи по-прежнему угрожающе ревет и надрывается непогода, как будто хочет свести с обитателями дома личные счеты.
— Завтракать, — сказала мудрая Мамина.
И, бросив последний взгляд на растерзанные часы, все пошли на кухню.
СНЕГ
— Может показаться странным, хотя на самом деле это не так, что второй сборник стихов нашего поэта-модерниста, коренного гаванца, называется «Снег» несмотря на то что все мы твердо убеждены, что он, скорее всего, никогда в жизни не видел снега.
Это сказал Оливеро на кухне, спокойно, как говорит человек, пребывающий в абсолютной гармонии с самим собой. Всех удивило, что он вдруг так заговорил — всего несколько минут назад он остервенело разбивал палкой на куски старинные часы. Необъяснимым было именно его остервенение, ведь все знали, как много значили для него эти часы, принадлежавшие его матери, ведь ни для кого не было секретом, что Оливеро боготворил свою мать, когда она была жива, и теперь боготворил воспоминание о ней.
С некоторым преувеличением можно сказать, что часы как бы занимали место умершей матери. Никому из домашних, даже рациональному Полковнику, никогда не приходило в голову остановить их своевольный бой, потому что это означало бы заставить умолкнуть последний отзвук голоса Пальмиры Барро.
Хотя это звучит не только преувеличенно, но еще и напыщенно и вдобавок смешно.
И все же Оливеро, сидя за кухонным столом и спокойно рассуждая о сборнике стихотворений, вернее, о названии сборника стихотворений, не производил впечатления человека, который только что сражался со своими самыми сильными привязанностями и воспоминаниями.
— «Снег», — продолжал он с тихой улыбкой, — это название второго, посмертного, сборника стихов Хулиана дель Касаля, гаванца, никогда не выезжавшего (только однажды он выбрался в Мадрид) из Гаваны, который родился, жил и умер в Гаване. Заметьте, как верно утверждение, что любишь то, чем не обладаешь, потому что другой поэт, современник Касаля, Хосе Марти, дискредитировавший себя своим гротескным патриотическим славословием, провел большую часть жизни среди снега, а на Кубе лишь шестнадцать из сорока двух лет, которые ему выпало счастье или несчастье прожить; он питал к ней идиллическую любовь, превратил в мечту, в беспомощную сеньору, в нуждающуюся вдову, одетую в черное, с гвоздикой в руке, вдову, ожидающую своего спасителя, то есть его. — Оливеро сделал глоток из чашки с молоком, которую Мамина поставила перед ним, и тыльной стороной ладони вытер белые усы, оставшиеся над верхней губой. — Марти, изгнанник, вздыхал о Кубе, в то время как Касаль, никуда не казавший носа из Гаваны, ненавидел остров, по которому тот другой тосковал. Касаль бредил снегом, который Марти не выносил. Какая странная судьба, или не такая уж и странная? Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но то, что посмертный сборник Хулиана дель Касаля был назван «Снег», имеет, по-моему, такое же значение, как то, что первое серьезное кубинское стихотворение, первая великая ода в истории кубинской поэзии была посвящена реке, берущей начало недалеко от города Баффало, в озере Эри, на западе штата Нью-Йорк [147].
Элиса улыбалась, хоть ей было не до смеха, и это было видно по ее серьезным глазам и нахмуренному лбу. Время от времени она делала жест рукой, словно желая прервать речь Оливеро и вставить реплику. Но каждый раз что-то ее останавливало.
Мамина долила молока в чашку Оливеро, он закрыл глаза и сообщил, что Касаль мечтал о снегопаде в Гаване.
— Да, — сказал он, — первого ноября 1890 года Хулиан дель Касаль заявил, что мечтает, чтобы наступила зима, которая продлилась бы целый год. Чтобы черные тучи закрыли неутомимое солнце и разогнали застывший в воздухе зной, и чтобы вместо дождя пошел снег и все накрыл, как покрывалом. Не помню, использовал ли он слово «покрывало» или, может быть, «саван» (скорее всего, второе, это больше в его духе), это не важно, он хотел, чтобы на Кубе выпал снег, и повторял, это я помню дословно, что лучшего савана, чем снежный, не может и желать народ, зевающий от голода и терзающийся собственным бессилием. Но это мое личное мнение, и я готов поспорить с кем угодно, что если бы снег на острове выпал, то история наша пошла бы по-другому. — Он открыл глаза и поставил чашку на стол, обхватив ее обеими руками, словно кто-то собирался ее отнять. — Я думаю… нет, не думаю, я убежден, что все беды этой страны происходят, с одной стороны, от жары, а с другой — и заметьте, это совсем не одно и то же — от отсутствия снега. Холод — это одно, а снег — совсем другое явление, высшего порядка. Снег — это не только холод, но и многое другое, например цвет мира и времени, ритм жизни. Я уверен: если бы на Кубе шел снег, мы бы не жили в таком дерьме, в каком живем. История, кто осмелится возражать против этого, была бы другой. Не было бы стольких эпидемий, потому что все эпидемии от жары, ели бы мы не авокадо и манго, а виноград и яблоки, которые гораздо легче перевариваются, не были бы мы одной большой плантацией сахарного тростника, и никто не станет спорить, что сахарный тростник не только дьявольски сложно растить и собирать, но к тому же это уродливое растение, сообщающее нашим полям ужасный, однообразный вид. Мы производили бы сахарную свеклу, которая имеет не зеленый, а благородный цвет красного вина. Или еще лучше, мы были бы лесной страной и экспортировали бы древесину, производили бы часы, игрушки, прелестные музыкальные шкатулки или стекло и фарфор. Потому что в нашем климате, вы меня, конечно, понимаете, было бы немыслимо работать у плавильных печей, разогретых больше чем до тысячи градусов. Мы делали бы вино вместо тростниковой водки. На Рождество мы ели бы не свинину, а индейку, блюдо гораздо более утонченное, индейка с клюквенным соусом — гораздо более изысканное меню, чем свинина с маниоком и черной фасолью. И при таком холоде невозможно было бы жить на улице, только в домах с островерхими, чтобы не скапливался снег, крышами. Я не буду перечислять все преимущества жизни в домиках с островерхими крышами, иначе я никогда не закончу. Все мы, для начала, больше бы читали, сидя в уютных креслах у огня. И больше бы думали. Разве вы никогда не замечали, что при такой жаре невозможно привести в порядок мысли? Почему, как вы думаете, на Кубе нет философов? Потому что здесь никогда не выпадал снег и не нужно зажигать огонь, чтобы обогреть дом. Мы обречены иметь преподавателей философии, которые не сами думают, а прочитали то, что думают другие. При таком солнце и зное можно рассчитывать только на преподавателей философии, хоть они самонадеянно называют себя «философами». Но мы-то знаем, что одно дело — как они себя называют и совсем другое — кем были, есть и будут эти господа, любители рома, домино и петушиных боев, которые потом черкнут статейку на трех страницах с цитатами из Гегеля, и дело с концом. Если это значит быть философом, то что, черт побери, мы имеем в виду, говоря о Мартине Хайдеггере? — Оливеро снова улыбнулся с видом человека, пребывающего в абсолютной гармонии с самим собой. — И кроме того, и сейчас я скажу нечто чрезвычайно важное, мы бы не потели. Что там ни говори, пот в итоге оказывается губительным. Мысли растворяются в поту, выходят с ним на поверхность кожи да так и остаются на милость солнца и москитов. Когда видишь на коже блестящие белые точки, это не соль, выпаренная из пота, это соль мыслей, вышедших с потом. Или ты потеешь, или думаешь, одно из двух. Усомнись в человеке, который потеет и рассуждает о феноменологии духа. Невозможно представить себе, чтобы человек потел, ел рис с черной фасолью и жареного поросенка, портил воздух, как портят его после черной фасоли и поросенка, и одновременно размышлял о «страхе и трепете» [148]. Мне кажется это настолько очевидным, что даже стыдно говорить об этом. Жара заставляет думать о физическом, а холод — о метафизическом.