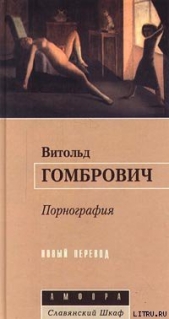Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника
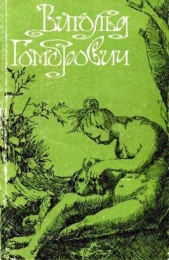
Девственность и другие рассказы. Порнография. Страницы дневника читать книгу онлайн
Представленные в данном сборнике рассказы были написаны и опубликованы Витольдом Гомбровичем до войны, а в новой редакции, взятой за основу для перевода, — в 1957 г.; роман «Порнография» — написан в 1958, а опубликован в 1960 году. Из обширного дневникового наследия писателя выбраны те страницы, которые помогут читателю лучше понять помещенные здесь произведения. Давно вошедшие в наш обиход иноязычные слова и выражения оставлены без перевода, т. е. именно так, как это сделал Автор в отношении своего читателя.
При переводе сохранены некоторые особенности изобретенной Гомбровичем «интонационной» пунктуации, во многом отличной от общепринятой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Коровы.
Когда я прохожу мимо стада коров, они поворачивают ко мне свои головы и не спускают глаз до тех пор, пока я не пройду. Так же, как и у Руссовичей в Коррьентес, но тогда я не переживал из-за этого, а вот теперь, из-за «коровы, которая увидела меня», эти взгляды мне кажутся видящими. Травы и злаки! Деревья и поля! Зеленая суть мира! Я погружаюсь в этот простор, как будто отрываюсь от берега, и меня окутывает действительность, состоящая из миллиардов существ. Живая пульсирующая материя! Роскошные заходы солнца, сегодня раскинулись два бело-кофейно-бурых острова с горами и башнями из сверкающих сталактитов, и все — в рубиновой короне. Потом острова слились, создавая залив мистической лазури, столь чистой, что я почти что поверил в Бога — а потом над самым горизонтом наступило сгущение темноты, и посреди бурых выпуклостей, захвативших весь небосклон, осталась лишь одна светящаяся точка, пульсирующее сердце блеска. Осанна! Мне не очень хочется писать об этом, столько заходов уже описано в литературе, особенно в нашей.
Но дело совсем в другом. Корова. Как мне вести себя по отношению к корове?
Природа. Как мне вести себя по отношению к природе?
Иду себе по дороге, вокруг пампа — и чувствую, что во всей этой природе я — иностранец, я в моем обличьи… чужой. Угрожающе иной, отличающееся созданье. И я вижу, что польские описания природы, равно как и все прочие, ни на что не годятся в ситуации резкого противостояния моей людскости и природы. Противостояния, требующего разрешения.
Польские описания природы. Столько мастерства в них вложено и какой бездарный результат. Столько уже времени мы нюхаем эти цветы, растворяемся в заходах, погружаем лицо в свежую листву, вдыхаем утренние зори и поем гимны в честь создателя, придумавшего эти чудеса? Но это распластывание, коленопреклонение, широкое и возвышенное нюхание лишь отдаляет нас от самой острой человеческой истины — а именно от того, что человек ненатурален, он антинатурален, антиприроден.
Если тот народ, к которому я принадлежу, когда-нибудь почувствует, что по сути своей он отличается от коня, то только потому, что учение Церкви говорило ему о бессмертной человеческой душе. Но кто создал эту душу? Бог. А коня кто создал? Бог. Тогда конь с человеком сливаются в гармонии первоначала. Различие между ними преодолимо.
Подхожу к концу эвкалиптовой аллеи. Темнеет. Вопрос: будучи лишен Бога, я становлюсь ближе к природе или дальше от нее? Ответ: дальше. И даже то противостояние между мной и природой становится без него неподдающимся восполнению, здесь нет места для апелляции к какому-то высшему суду.
Но даже если бы я уверовал в Бога, то и в этом случае католическая позиция по отношению к природе была бы невозможной для меня, поскольку она противоречила бы всему строю моего сознания, всем моим чувствам — и все из-за взглядов на проблему боли. Католицизм пренебрегал всеми созданиями, кроме человека. Трудно представить себе более олимпийское безразличие к «их» боли — «их», т. е. животных и растений. Человеческая боль для католика имеет смысл — подлежит освобождению, исцеленью; поскольку человек наделен свободой воли, то боль — наказание за грехи, а будущая жизнь воздаст за притеснения в жизни настоящей. Но вот конь? Червяк? О них забыли. Эти мучения лишены справедливости — голый факт, зияющий абсолютом отчаяния. Опущу сложную диалектику теологических доктрин. Я говорю о рядовом католике, который ходит в блеске справедливости, выделяющей ему все, что полагается, и остается глухим к безмерной бездне той, другой боли — неоправданной. Пусть мучаются! Его это не касается. Ведь у них нет души. Пусть мучаются — все равно бессмысленно. Да, трудно найти науку, которая была бы обеспокоена миром вне человека — и как здесь удивляться, что она нас ввергла в то состояние блаженного неведения и святой наивности по отношению к природе, которое проявляется в голых идиллических описаниях восходящего или заходящего солнца.
Меня к этим низам, к конфронтации с конем, жуком, растением толкает стремление «обратиться к низкому». Если я пытаюсь высшее сознание поставить в зависимость от низшего в человеческом мире — если я хотел бы связать зрелость незрелостью — разве не обязан я спуститься еще на несколько ступенек по лестнице видов? Охватить весь спектр движения вниз?
Но — какое нежелание… Признаюсь — это меня так утомляет. Не хочется об этом думать. И не люблю, почти не переношу — даже мысленно выходить из человеческого царства. Может быть потому, что слишком уж велики эти царства, окружающие нас? А может это — нежелание покидать свой дом?
Понимать природу, рассматривать ее, исследовать — это одно. Но когда я пытаюсь подойти к ней как к чему-то равному мне общностью охватывающей нас жизни, когда я хочу с животными и растениями быть «на ты» — тогда мною овладевает вялое нежелание, пропадает энтузиазм, и как можно скорее я возвращаюсь в свой человеческий дом и запираю двери на ключ.
Запишем это, ибо, как знать, может именно здесь — одна из наиболее существенных особенностей моей гуманности: во мне появляется какое-то сопротивление, принимающее характер скуки; скуки, когда я хочу понять ту, более низкую жизнь и признать ее.
Сегодня я «находился в состоянии убивания мух», то есть просто убивал мух плетеной хлопушкой.
В моей комнате неизвестно откуда (потому что на окнах сетки) берутся мухи. Почти что ежедневно я ликвидирую их таким образом. Сегодня я убил около 40. Разумеется, не всех сразу насмерть — некоторые, сильно искромсанные, падают на пол, и время от времени я натыкаюсь на такую муху, оставленную один на один со смертью. Сразу же добиваю таких. Но иной раз случается, что попадает такая в щель в полу и тогда становится недоступной мне своей болью.
В детстве я мучал животных. Вспоминаю, как в Малошицах я играл с деревенскими ребятами. Мы хлыстами били по лягушкам. Сегодня я боюсь — вот оно, нужное слово! — мук мухи. И этот страх, в свою очередь, ужасает меня, как будто в нем заключено какое-то чудовищное ослабление по отношению к жизни, я действительно боюсь того, что не смогу перенести боли, испытываемой мухой. Вообще с возрастом во мне произошла трагическая и ужасающая эволюция, которой я не хочу скрывать, совсем напротив — я хотел бы ее как можно сильнее подчеркнуть. И я утверждаю, что она свойственна не только мне, но и всему моему поколению. Отмечу ее отдельные пункты.
1. Обесценение смерти. — Смерть становится для меня все менее важной — что человека, что зверя. Мне все труднее понимать тех, для кого лишение жизни является самым большим наказанием. Я не понимаю той мести, которая, неожиданно выстрелив в затылок, радуется — как будто тот что-то почувствовал. К смерти я стал совершенно безразличен (о собственной не говорю).
2. Интронизация боли. — Боль становится для меня исходным пунктом экзистенции, принципиальным ощущением, от которого все начинается и к которому все сводится. Экзистенциалисты со своей «жизнью для смерти» меня не устраивают, я бы противопоставил жизнь и смерть.
3. Боль как боль, боль сама по себе. — Это самое важное. Это-то изменение в восприятии и является воистину угрожающим и громадным. А состоит оно в том, что все меньше речь идет о том, кто мучается… Я думаю, что в настоящее время существуют в этом отношении две школы. Для людей прежней школы боль кого-либо из семьи — самая ужасная после своей собственной; боль сановника важнее боли мужика; боль мужика важнее боли мальчика; боль мальчика важнее боли собаки. Они пребывают в ограниченном круге боли. Но для людей новой школы боль — это боль, где бы она ни имела места, равно страшна и в человеке, и в мухе, в нас возросло ощущение чистой муки, наш ад стал универсальным. Меня, например, некоторые считают бесчувственным, потому что мне трудно скрыть, что боль даже самых близких мне людей — это не самая близкая моя боль. И вся моя природа нацелена на выявление тех мук — низших.