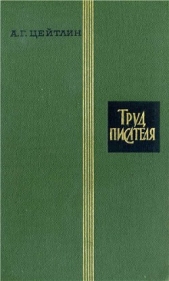Явление. И вот уже тень
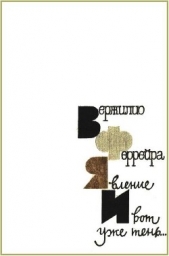
Явление. И вот уже тень читать книгу онлайн
Вержилио Феррейра — крупнейший романист современной Португалии. В предлагаемых романах автор продолжает давний разговор в литературе о смысле жизни, ставит вопрос в стойкости человека перед жизненными испытаниями и о его ответственности за сохранение гуманистических идеалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Встаю со скамейки в саду, иду к Элии. К чему дожидаться другого случая? Пойду к ней сейчас. Мне бы предлог, никогда не умел подыскивать предлоги. Дабы жить среди человеческих особей, необходимо умение выстраивать жизнь, а я всегда умел только жить — в прямом смысле слова. А может, и того не умел.
— Ты так и не выстроил ничего для жизни, — говорит мне Элена.
Ну, конечно, не выстроил ничего, похожего на муравейник.
— Ты не стремишься к завоеваниям, ждешь, что все само приплывет тебе в руки.
Неправда. Вот сейчас, например, я стремлюсь к завоеваниям, тычу пальцем в звонок, второй этаж, дверь справа.
— Кто там? — спрашивает Элия из глубин своей осторожности.
— Я, — отвечаю я ей, ибо знаю, что я — это я.
Она сначала не открывает, колеблется, видимо, между противоречивыми побуждениями. Но в какой-то момент доброе чувство, надо думать, одержало верх. И она открыла дверь.
— Что случилось?
Я сначала вошел, а уж потом приступил к объяснениям, получилось удачно. Потому что она закрыла за нами дверь. Мы вошли в комнату, сели, о, господи, она здесь живет.
— Что случилось?
Она здесь живет. Здесь ее как-то легче воспринимать, она вносит в это пространство жизнь, а оно, в свой черед, делает ее более земной.
— Мне нужно было видеть вас. Мне так нужно было видеть вас.
Я закурил сигарету, она помахала рукой, отгоняя дым, Элена всегда протестовала, когда я курил. Но сигарета помогает мне уплотнить мое «я». Виски тоже. Они, табак и виски, как-то способствуют созданию иллюзии, что ты — это ты, даже тогда, когда не знаешь, что делать. А ничего не делать самое трудное, потому что жизнь — это непрерывное деланье; проклятый грохот, что-то ремонтируют этажом выше. Или ниже? Живу в средоточии шумов, приобщающих меня к миру. Особенно по утрам. Слышу все. И сам, наверное, произвожу какой-то шум, дабы внести свою лепту — о, Элия.
— Мне так нужно было видеть вас.
Застряли на этом, и ни с места. «Поскольку кризис, о котором говорит нам писатель, — это кризис его преждевременной старости… Но разве Жулио Невес был когда-нибудь молодым? Воплощая классический тип писателя средней руки…» — и ураганный огонь захлестывает все мои территории с севера на юг и с востока на запад. Статьи, брошюры, я высмеян в самой сокровенной своей сути. И тут я робко взял Элию за руку. Она не противилась. Рука была холодная и узловатая, как у старухи, а все-таки не старушечья. И твое лицо так близко, в нежности твоей кожи. Я ощутил ее тонкость тыльной стороной руки. Мне нужно было сказать тебе так много, одно только слово, недоговоренное, действенное, как удар снизу в челюсть, — я задыхался от волнения. И тут я тихонько приблизил свое лицо к ее лицу, и рука моя потянулась к ее телу. Элия сразу вся напряглась, стряхнула мою руку. А наверху топот великанов, все здание ходит ходуном, видимо, ремонт основательный, может быть, решили застеклить лоджию. Элена тоже была упряма, отталкивала меня упругими стальными руками, и я говорил:
— Как лапки у саранчи.
Энергичные руки, смелые до готовности дать пощечину, — и она смеялась, радуясь своей победе над собой, надо мной. На том мы с нею и кончили, каждый сам по себе, отдельно от другого, и никакого общения — хотя бы взглядом, который разрядил бы напряжение.
— Больше вам нечего мне сказать?
Ледяная, нетронутая. Мне больше нечего было ей сказать, разве что полновесную грубость, которая разом сняла бы с меня все напряжение. Тогда я повернулся к ней и, как бешеный… Она яростно отбивалась, высвобождаясь из моих объятий, лицо раскраснелось, глаза потемнели от волнения. Я чуть не потерял очки. Мы снова были отделены друг от друга.
— Не хочу показывать вам на дверь, но сейчас у меня дела.
Она была весела, довольна собой, может быть, своей победой. И тем, что она знала: во мне есть, что победить. Тогда я встал. Встать было не так-то просто. Я был один, воздух был пронизан светом. Очки были целы.
Не могу больше, солнечный луч скользит по корешкам политиков — мне так нужно тебя видеть. Напряжение во мне растет, разбухает, почти переходя в безумие. Это желание, но желание, не поддержанное действенными мерами, которые помогли бы ему осуществиться, как это бывает у людей практических, которые жизнь понимают лишь как военную тактику, даже если женщина уже в постели. Нужно ли достижение, если такова его цена? Что возмещает победа, если стоила такой борьбы? Утолить голод всех изголодавшихся частиц моего «я», а не только той, самомалейшей, которая не затратила усилий. Ибо когда борьба длительна, по-настоящему наслаждается только та, самомалейшая.
— Ты ничего не хочешь завоевывать, хочешь, чтобы все давалось тебе само собой, — сказала мне Элена.
Но что за удовольствие получишь на вершине горы, если пришлось добираться до нее пешком? Лично я отдаю предпочтение автомашине. Утолить желание всех частиц своего я, в которых оно заговорило, чтобы удовольствие досталось им полностью, а не в виде огрызков. Как у детей — чтобы до отвалу. И таково временами желание видеть тебя — до удушья. Вот как сейчас, особенно сейчас, когда я придавлен одиночеством, беспомощен, в страхе, а ты так далеко. Потребность видеть тебя, от которой перехватывает горло, хоть пинай ногами мебель, как ребенок. Неодолимая, неутолимая, хоть криком кричи. Видеть тебя. Пулей вылетаю в дверь, выталкиваю сам себя, мой попутчик — безумие: где ты? Стоит зима, ты пошла погреться на какое-нибудь политическое собрание, одно из тех, на которых решаются судьбы мира.
И вот я тоже на собрании, на первом попавшемся, высматриваю тебя, не мелькнет ли верткая головка в солнечных завитках. Ты красива, золотистые ноги обнажены, между полосками зубов припаянное к ним тонкое лезвие агрессивности, ты стоишь на песке, держа на плечах своих всю полноту дня. И безмерность власти твоей, распахнутой в просторы моря. Но здесь я не вижу тебя, бреду по проходу партера, разглядываю публику наверху, в ярусах, не вижу тебя. А на сцене — стол президиума, длинный-предлинный, а за столом члены президиума. Возле стола — трибуна, на трибуне — выступающий. Он уже стоял там, когда я вошел, налаживал микрофон, кипя апостольским рвением. Он говорил — пока он говорил, я искал местечко у стены, вдоль которой уже стояли люди, — он говорил:
— История неумолимо шагает вперед, и я повторяю, что неотъемлемое право народа…
Чертов грохот, доносящийся с верхнего этажа, где идет ремонт, мне ничего не слышно.
— …святое право народа и то высокое, незапятнанное, святое понятие, что зовется свободой…
— Да здравствует свобода!
— Да здравствует!
— Обскурантизм и гнет объединили свои силы и сообща ликуют во тьме, а невежество и голод… Но мы знаем, что наше будущее и будущее наших детей в нерушимом союзе мира, и слава тем, кто из тьмы застенков зовет сияющий свет, уже мерцающий на горизонте, и ликующую победу священной свободы…
— Да здравствует свобода!
Оратор был невысок ростом, мускулист; он снял пиджак. Снял галстук. Засучил рукава рубашки, все члены президиума сняли пиджаки, засучили рукава. Все участники собрания поснимали пиджаки, засучили рукава. Я тоже снял пиджак и засучил рукава, потому что не хотел привлекать внимание к своей особе. Да еще эти очки, проклятые очки. Вокруг были люди, исполненные энергии, мускулистые, готовые к бою. Я стал пробираться к выходу, пользуясь мгновениями паузы, — как это мне вспомнилось, что Элия?.. Взоры собравшихся были обращены в будущее, они не заметили меня, человека, который так плохо видит вдаль. Плотные, коренастые, мускулистые. Выходя из зала, я обратил внимание на одного человека, у него рукава засучены не были. Он сидел, ссутулившись, совершенно седая голова склонилась на грудь, он спал. Наконец я добрался до двери. Снова я на улице, снова среди зимы.
Теперь нужно было идти на другие собрания, Элия так интересовалась деятельностью политических партий. Даже враждебных, чтобы говорить потом со знанием дела. И как раз в здании рядом шло собрание одной такой; вдоль тротуара выстроилось множество черных автомобилей. И мотоциклисты в ожидании, угрюмые, при нашивках. Я был еще разгорячен предыдущим собранием, вошел с шумом, какие-то мерзкие типы потребовали, чтобы я соблюдал тишину. В вестибюле было много людей в мундирах. Я вошел в зал, все присутствующие были в пиджаках, я, смирный пролетарий, внутренне сжался. На сцене торчали рядком члены президиума, все, как один, в наичернейших пиджаках. Рядом трибуна, на ней оратор, уже ораторствующий. Публика сливалась в черные, недвижные ряды. Такие сухие. Строгие лица, глаза остекленелые, смотрят прямо перед собой. Щеки впалые, из папье-маше. И все были лысы. Черепа поблескивали в рассеянном свете зала, бледные, четкие, чинные — точь-в-точь тыквы на огромной бахче. Губы поджатые, фиолетовые. Глаза помаргивали медленно-медленно. Они сидели прямо, словно вытянувшись вдоль перпендикуляра, начерченного невидимой линейкой, и каждый сжимал в деснице пергаментный свиток, в коем запечатлена была историческая истина. Когда нужно было испускать клики одобрения, они вздымали десницу со свитком, дабы все видели оный. Оратор был худ, кости да нервы. Сноп света бил ему в лысину, разлетался от нее бликами. Он вещал звучным ясным голосом, четко выделявшим его ученейшие периоды. Только изредка повышая голос, что заметно было по движению бровей. Весьма сдержанный при всей пылкости. Он вещал: